 ОГЛАВЛЕHИЕ
ОГЛАВЛЕHИЕ
 >>>
>>>
Сознание есть то, что оно не есть, и не есть то, что оно есть.
Жан-Поль Сартр
Недавно я пытался разъяснить одной умной женщине проблему: как понять, что мы вообще воспринимаем что бы то ни было. Но мне это никак не удавалось. Она не могла понять, в чем тут проблема. Наконец, в отчаянии я спросил ее, как она сама считает, каким образом она видит мир. Женщина ответила, что, вероятно, где-то в голове у нее есть что-то вроде маленького телевизора. "А кто же в таком случае, – спросил я, – смотрит на экран?"
Френсис Крик
Все мы представляем себе, что такое сознание, но только до тех пор, пока об этом не задумываемся. А стоит задуматься, как почти все, что мы о нем знаем, покрывается пеленой тумана. Тем не менее все, что мы знаем, мы знаем только потому, что об этом думаем, это осознаем. Явление осознания – самый очевидный факт на свете. Это признавали даже такие разные мыслители, как Р. Декарт и У. Джеймс. Вся трагедия в том, что объяснение этого очевидного факта не может быть столь же очевидным, ибо само сознание не знает, откуда и как оно возникает. X. Ортега специально поясняет, почему столь трудны размышления о природе сознания. Чтобы составить себе отчетливое впечатление о каком-либо предмете, говорит он, его необходимо мысленно изолировать, вычленить из окружения. Однако сознание – это такая вездесущая вещь, которая неизменно входит для нас в состав всех других предметов. "Оно есть неизбежный привесок ко всему, что мы воспринимаем и о чем думаем, однообразный и неустранимый, неотлучный спутник всех прочих предметов и явлений". Как же нам определить, что такое сознание, спрашивает Ортега, если оно присутствует во всем, что мы воспринимаем?10
Никто не знает, как, когда и почему у такого блистательного физиологического автомата, каким является человеческий организм, но шикают и исчезают субъективные переживания. Никто не знает, куда сознание уходит во время сна и уходит ли вообще. Никому не удалось сформулировать надежные критерии наличия осознаваемых переживаний. То, что переживается мной как данное моему сознанию, т. е. как непосредственно очевидное (любимый термин отцов-основателей психологии), не может быть передано другому лицу в качестве столь же непосредственно очевидного. И о сознании у кого-то другого, кроме себя, можно только предполагать, но не знать. Конечно, общаясь с другими людьми, мы верим, что у них есть сознание. В противном случае, зачем так много времени своей недолгой жизни мы тратим на разговоры? Более того, каждый человек в нормальном состоянии даже способен дать словесный отчет о том, что он сейчас осознает. Впрочем, как можно узнать, что его слова действительно соответствуют наличию у него субъективной реальности?
Во всяком случае, люди, вышедшие из состояния клинической смерти, способны иногда вспомнить, что происходило вокруг них в момент их смерти, например, разговоры медицинского персонала11. И это в то время, когда у организма почти нет регистрируемых физиологических реакций! На основании чего можно определить, осознает ли больной хоть что-то в период подобных переживаний или нет? Или осознает только тогда, когда рассказывает о том, что помнит? Надежных критериев наличия сознания нет. Что же мы тогда вообще можем знать о сознании? Как определить, осознают ли что-нибудь пчелы, дельфины, новорожденные дети, спящие взрослые, наконец? Они ведь даже не могут ни о чем рассказать.
Начнем рассуждать (и да простит меня читатель за однообразное движение по кругу!): уже для того, чтобы нечто осознать, надо вначале уметь осознавать. Беда, однако, в том, что само это умение не может осознаваться и никакие осознаваемые процессы не могут его породить. Иначе следует признать, что осознание возможно еще до того, как оно возникло. Чтобы почувствовать весь ужас этого вывода, исполню аналогичные пируэты: для того чтобы нечто знать, надо уметь знать до того, как мы узнаем, каким образом мы это умеем. А для того чтобы помнить, что мы нечто забыли, надо помнить о том, о чем мы забыли. И т. д. В том и проблема: зачем забывать и помнить об этом? Зачем осознавать, если мы умеем знать без всякого осознания?
Мы не умеем осознавать процесс создания осознаваемого; то, что мы осознаем (мысли, чувства и пр.), всегда присутствует в нашем сознании в уже готовом виде. Человек способен дать себе отчет лишь в том, что именно он осознает, но не может объяснить переход от одних своих мыслей к другим. Вот как писал об этом О. де Бальзак в "Драме на берегу моря": "Почему обуревают меня думы? Почему вдруг находит тоска? Кто знает? Мысли западают вам в сердце или голову, не спрашивая вас". А вот размышляет о своем творчестве В. Моцарт: "Мысли приходят ко мне часто наплывом. Откуда и как, этого я не знаю и не могу ничего сделать, чтобы узнать. Те из них, которые мне нравятся, я удерживаю в памяти и тихонько напеваю про себя"12. И. Бродский сходное переживание выразил в своей Нобелевской лекции так: "Поэт есть средство существования языка... Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно кончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто оказывается лучше, чем он предполагал"13.
Психологи, опираясь на экспериментальные данные, сказали об этом лишь чуть более наукообразно: мысли управляются неосознаваемой детерминирующей тенденцией. Как удачно высказался А Бине, "мышление – это бессознательная деятельность ума"14. А поскольку работа механизма, приводящего к осознанию, нами заведомо не может быть осознана, то и неосознаваемая детерминация мышления логически неизбежна. Никто не способен почувствовать, как по его нервным путям идут импульсы или как они обрабатываются в коре головного мозга. Осознается только течение собственных мыслей, а не причины, которые этими мыслями управляют. Вы, дорогой читатель, наверное, сейчас понимаете, что читаете книгу определенного формата, видите те или иные буквы. Если потребуется, то способны ответить и на вопрос, в каком месте земного шара вы читаете эту книгу. Но на самом деле то, что вы видите, – это ворох кусочков информации (по выражению Г. Бейтсона15), которые вы синтезируете в зрительный образ. Но процесс этого синтеза вы не видите! Человек всегда осознает некое содержание (связанное с внешним миром или самим собой), но не сам процесс осознания этого содержания. Э. Аронсон с соавторами описывают целую серию остроумных экспериментов, непосредственно доказывающих, что "мы хорошо осознаем конечный результат мыслительного процесса, но не в состоянии понять путь, который привел к этому результату"16.
Особенно остро неосознаваемость причин наших мыслей заметна в случае появления в сознании совершенно новых идей, которых ранее там не было и быть не могло, – например, в результате творческого акта. Субъективно приход новой идеи переживается самим творцом как нечто, от него самого не зависящее. Ведь он не знает, откуда эта идея появилась, – ее же только что в сознании не было. Великий поэт и мудрый человек Ф. Шиллер эффектно назвал возникающее состояние "неожиданностью души". Ученые описывают свое состояние в процессе научного открытия выражениями: "с глаз внезапно упала пелена", "неожиданная мысль, словно молния, пронзила воображение" и т. д. Творец идеи обычно чувствует свою личную отстраненность от процесса придумывания именно этой идеи. Неудивительно, что верующий Р. Декарт, когда ему в голову пришла идея аналитической геометрии, упал на колени и стал благодарить Бога за ниспосланное ему озарение. А композитор И. Гайдн, когда у него возникла мелодия, символизирующая рождение света в "Сотворении мира", воскликнул, ослепленный блеском этой для него невесть откуда взявшейся мелодии: "Это не от меня, это свыше!" Менее верующие связывают подобное переживание с таинственным словом "интуиция", которое, впрочем, никак не разъясняется по существу, а потому ничего и не объясняет.
Подойдем к проблеме сознания с другой стороны. Очевидно, что сознание как-то перерабатывает информацию. И конечно же, этому информационному процессу должны быть присущи некоторые ограничения. Однако осознавать свои границы сознание не может. Так, глухой от рождения человек не способен непосредственно осознавать свою глухоту, потому что он живет в беззвучном мире и не в состоянии непосредственно переживать, что он не слышит звуков, поскольку в своем опыте никогда не сталкивался со звуками. Такому человеку может быть известно, что он не обладает некоторыми способностями, имеющимися у других людей, но он не знает, в чем именно эти способности состоят. И дальтоник не способен непосредственно переживать, что он не отличает красный цвет от зеленого, потому что он их действительно субъективно не различает. Конечно, он может переживать невозможность получить водительские права и пр., но никогда бы сам не догадался, что не воспринимает различия некоторых цветов. Потому же нет и людей, которые бы непосредственно переживали свою глупость как присущую самому себе характеристику, ибо для оценки границ собственных интеллектуальных возможностей надо обладать превосходящим эти возможности интеллектом, что, разумеется, никому не дано. Вот нас и радует шутка М. Монтеня: из всех богатств на земле Бог лучше всего распределил ум, ибо никто не жалуется на его недостаток.
Сознание не знает самых простых наложенных на него ограничений. Например, люди не осознают границ своих возможностей запоминания. На занятиях со студентами я много раз спрашивал их, сколько двузначных чисел вы можете запомнить с одного предъявления. И почти всегда находился студент, который на спор со мной брался запомнить с десяток. Более информированные студенты-психологи, зная о том, что человек с первого предъявления обычно может запомнить (сохранить в сознании) семь или около того знаков, столь же безуспешно пытались запомнить семь двузначных чисел. Ошибка студентов-психологов заключалась в том, что семь – это средний объем запоминания с одного предъявления однозначных цифр, а не двузначных чисел. Сказанное еще раз подчеркивает: даже если человек может знать об ограничениях (как глухой от рождения может знать о своей глухоте), то само это ограничение все равно непосредственно не осознается.
Временные ограничения работы сознания впервые заметили астрономы. Известный эпизод, о котором рассказывают в учебниках: в 1796 г. из обсерватории в Гринвиче был уволен ассистент за то, что при выполнении астрономических измерений при регистрации момента прохождения звезды по координатной сетке телескопа допускал ошибку почти в секунду. Много позже стало ясно, что эта ошибка была вызвана не небрежностью ассистента, а индивидуальными ограничениями на скорость реагирования на сигнал, существующими у каждого человека17. То, что потребовалось время для осознания самого этого факта, как раз и говорит о том, что существование временных ограничений никто не осознавал.
Предъявим испытуемому один и тот же по физическим параметрам звук в левое ухо на одну тысячную секунды раньше его появления в правом ухе. Испытуемому в этом случае будет казаться, что был предъявлен только один звук. Но, поскольку по разнице времени прихода звука в разные уши мы устанавливаем местоположение источника звука, испытуемому будет казаться, что звук находится слева от него. Чтобы испытуемый услышал два звука, нужно – и это продемонстрировали исследования Э. Пеппеля18 – предъявлять второй звук через 3-5 мс. И, хотя никто не способен осознавать различие интервалов времени в 1 мс и в 3-5 мс, тем не менее все без особых затруднений осознают, сколько звуков – один или два – предъявлено. Но разве кто-нибудь когда-нибудь осознавал граничные интервалы в несколько миллисекунд?
Содержание сознания изменяется даже вопреки нашему желанию. Посмотрите на рисунок. Его можно увидеть (осознать) или как усеченную пирамиду, обращенную к вам передней стороной, или как удлиненный коридор, где меньший квадрат является задней стенкой. Известно, что при всем желании невозможно удержать в сознании что-то одно. Если вы хотите видеть только пирамиду, то рисунок все равно внезапно для вас превратится в коридор, а если вам захотелось видеть один только коридор, то он все равно рано или поздно станет пирамидой.
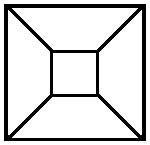
Но это означает, что содержание сознания действительно изменяется независимо от осознанного желания носителя этого сознания! А следовательно, каким-то образом принимается решение, что осознавать, а что – нет, и это решение делается неосознанно.
В той мере, в какой человек хоть что-нибудь осознает, содержание его сознания никогда не будет осознаваться им как пустое – именно потому, что он нечто осознает. Сознание не способно в момент перерыва в собственной деятельности замечать наличие этого перерыва. Поэтому же человек никогда не сможет осознать факт собственной смерти, ибо в этот момент сознание уже не функционирует. Более того, включение и выключение осознания (например, во время сна) также не происходит осознанно. Для этого, наверное, тоже должно каким-то образом приниматься специальное решение.
Показательно, что неизменные стимулы ускользают из сознания даже вопреки осознанному желанию человека удерживать свое внимание именно на этих стимулах. Не меняющееся по яркости и цвету изображение, стабилизированное относительно сетчатки глаза (с помощью контактных линз, к которым прикреплен источник света, двигающийся тем самым вместе со зрачком), перестает осознаваться уже через 1-3 с. Многократное повторение одного и того же слова или группы слов приводит к субъективному ощущению утраты смысла этих слов – не случайно восточные мистики используют прием многократного проговаривания одной и той же словесной формулы для достижения состояния, которое они называют состоянием "опустошения сознания". Перестает замечаться постоянный раздражитель умеренной интенсивности, действующий на слух или кожу (постоянный шум, надетые наручные часы и пр.).
В 1935 г. Дж. Струп описал простое, но удивительное явление. Возникающий эффект можно легко почувствовать на самом себе.
Возьмите фломастеры красного, зеленого, желтого и синего цвета и, пользуясь этими фломастерами в случайной последовательности, напишите несколько раз в произвольном порядке слова: красный, синий, зеленый, желтый. А затем попробуйте, не читая самих слов, назвать цвет фломастера, которым эти слова написаны. Пример: если слово "красный" написано зеленым цветом, то надо говорить: "зеленый". Поразительное ощущение: несмотря на все желание не читать слов, написанные слова лезут нам в голову и мешают делать не слишком мудреную вещь: распознавать цвета! Оказывается, время называния цвета (в рассмотренном примере – зеленый), которым написано слово, обозначающее цвет (красный), почти едва раза больше, чем время называния цвета зеленого пятна. Но это снова значит, что сознание не может помешать осознанию той информации, которую оно стремится не осознавать. Как же тогда оно вообще влияет на процесс осознания?
Дальше – больше. Мы осознаем нечто только в результате неосознаваемой переработки информации! Даже когда мы разговариваем, мы не осознаем, как мы это делаем. Люди не знают причин, почему они избирают именно это слово, а не иное, эту грамматическую конструкцию, а не другую. Билингвы (люди, свободно говорящие на двух языках), беседуя на одном языке, не думают о том, на каком языке им следует говорить, но при этом обычно не сбиваются с одного языка на другой. В беглой речи с друзьями мы не подбираем слова – они произносятся как бы сами собой. Психологи не случайно любят так называемый ассоциативный эксперимент, когда испытуемых просят назвать в ответ на предъявленное слово "первое слово, которое придет в голову". Предполагается, что эти первые слова испытуемых отражают их неосознаваемые установки и желания. Ведь их ответ, утверждают глубинные психологи, чем-то предопределен, но поскольку сам человек не осознает причины появления именно этой ассоциации, то, следовательно, за это ответственно нечто неосознаваемое.
Прочитайте фразу:
Мужчина уронил хрустальный бокал на стол, и он разбился.
К чему или к кому относится местоимение "он" в этом предложении? Кто разбился: мужчина, бокал или стол? Встречаясь с подобными двусмысленными предложениями, мы зачастую вообще не осознаем их двусмысленности. Мы заранее считаем, опираясь на жизненный опыт, что разбиться в такой ситуации может хрупкий бокал, но не осознаем ни самого процесса принятия решения, ни того, что для понимания предложения мы совершали весьма сложную переработку информации, опирающуюся на накопленный жизненный опыт. Мы осознаем лишь результат – однозначный смысл прочитанного. Требуется неожиданное продолжение, чтобы внезапно понять, что у текста был иной смысл. Подобный прием часто используется в лингвистических анекдотах, героем которых ироничная молодежь почему-то сделала Штирлица – героя популярного советского телесериала. Например: "Штирлиц всю ночь топил печь. К утру печь затонула". Требуется время, чтобы концовка этого анекдота заставила нас пересмотреть его начало. Но это значит, что у нас заведомо было более одной интерпретации смысла первой фразы. Если бы у нас изначально не было возможности иного понимания, мы бы никогда не смогли понять продолжение. Воспринимая речь, мы всегда делаем выбор. Другое дело, что сам процесс выбора остается неосознанным.
Хорошо известно, что человек воспринимает, хранит и перерабатывает гораздо больше информации, чем осознает. Мы узнаем об этом, потому что неосознаваемая информация оказывает воздействие на то, что мы делаем или осознаем. Из этого снова следует, что неосознаваемая детерминация самого процесса осознания обязательно происходит. И снова мы приходим к тому, что принимается решение, что осознавать, а что – нет. Но в связи с этим также возникает еще один страшный вопрос: зачем вообще нужно сознание, если осознается крайне малый объем воспринятой информации? Рассмотрим несколько примеров.
Способность наших органов чувств воспринимать информацию оценивают как близкую к теоретическим пределам19. Глаз реагирует на 2-3 кванта света, т. е. темной ясной ночью он должен заметить горящую спичку на расстоянии в десятки километров. Если бы глаз видел лучше, он реагировал бы на собственное свечение. Ухо способно слышать соударение больших молекул. Если бы оно слышало лучше, то должно было бы слышать соударение молекул в самом себе, а потому не было бы способно вообще что-либо воспринимать. Мозг, по-видимому, всю эту информацию перерабатывает. Во всяком случае, можно зарегистрировать наблюдаемые (в том числе и физиологические) реакции на чрезвычайно слабые сигналы, которые человек тем не менее не видит и не слышит. А мы всего этого колоссального потока информации не осознаем.
Человек воспринимает и перерабатывает информацию, предъявляемую с такой скоростью, что в сознании от нее, казалось бы, вообще ничего не остается. Известно, например, что человек быстрее опознает цвет стимула, если ему предварительно будет предъявлено словесное обозначение этого цвета. И наоборот, время опознания цвета увеличится, если предварительно будет предъявлено название другого цвета. Самое поразительное, что подобные эффекты наблюдаются даже тогда, когда предваряющее слово предъявляется всего на 10 мс!20 Результат поразительный: ведь предъявленное на такое короткое время слово не может быть осознанно и, казалось бы, не может быть прочитано. Следовательно, и сознании от него не должно быть никакого следа. Однако это неосознаваемое слово каким-то непонятным образом осмысливается и влияет на последующий процесс переработки информации. Другой пример. Если слово движется по экрану дисплея с угловой скоростью 80° в секунду, то человек видит лишь "смазанный" текст, который невозможно осознанно прочитать. Но, оказывается, и при таких условиях смысл слова воспринимается и влияет на выполнение последующих заданий21.
Похоже, что и задачи вначале решаются неосознанно, а уже потом происходит осознание найденного ответа. Считается, что увлажнение ладони (регистрируемое как изменение электрокожного потенциала) является реакцией на эмоциональное переживание. Так вот, оказывается, что в процессе решения шахматных задач испытуемые на несколько секунд раньше называния решающего хода, еще не осознавая найденное решение, уже выдают выраженную эмоциональную реакцию. Поэтому, например, О. К. Тихомиров прямо говорит об эмоциональном предвосхищении решения22.
Психологи конца XIX – начала XX вв. любили изучать неосознаваемую детерминацию в процессе решения задач, используя технику гипноза. Немецкий психолог Н. Ах давал одному из загипнотизированных испытуемых следующую инструкцию: "Будут показаны две карточки с двумя цифрами. При предъявлении первой карточки вы должны назвать сумму чисел, при предъявлении второй – разность". Затем испытуемого будят и показывают карточку с цифрами 6 и 2. Испытуемый говорит "восемь". Следующая карточка с цифрами 4 и 2 вызывает у него ответ "два". На вопрос, почему в первом случае он произнес "восемь", испытуемый ясно ответить не может, но сообщает, что испытывал "настоятельную потребность сказать именно это слово"23. А вот испытуемому, погруженному в гипнотический сон, внушается, что в ряду карточек, на которых изображены числа, он не увидит ту, на которой изображена формула, дающая после выполнения указанных в ней действий число 6. Карточку, на которой дано выражение:
(или даже нечто еще более сложное), испытуемый перестает после этого воспринимать24. Для того чтобы не увидеть предъявленную карточку, то есть чтобы принять решение о невосприятии того, что стоит перед глазами, испытуемый должен за время, отведенное на узнавание, выполнить следующие действия: прочитать формулу, написанную на карточке; провести соответствующие вычисления и получить ответ; затем сравнить этот ответ с заданным в инструкции числом и только после этого принять решение о том, вводить ли информацию о данной карточке в сознание. И все это делается почти мгновенно!
Француз И. Бернгейм внушил однажды испытуемому, что после того, как тот будет выведен из состояния гипнотического транса, он должен взять зонтик одного из гостей, открыть его и дважды пройтись вперед и назад по веранде. А о самой инструкции должен забыть. Когда этот человек проснулся, то взял, как ему и внушили, зонтик. Затем (хотя он все-таки не открыл этот зонтик) он вышел на веранду и дважды прошелся по ней вперед и назад. Когда его спросили, что он делал, он объяснил, что вышел "подышать воздухом". Он настаивал на том, что имеет привычку иногда так прогуливаться. Когда же его спросили, почему у него чужой зонтик, он был крайне изумлен и поспешно возвратил зонт на вешалку25. Отсюда следовал вывод: человек может делать нечто по причине, ему совершенно неизвестной, но при этом он обязательно должен придумать вполне правдоподобное объяснение своим поступкам. Иначе говоря, осознаваемое объяснение собственного поведения порождается неосознанно.
А уж неосознаваемость работы нашей памяти вроде бы и доказывать не надо. Само хранение информации явно неосознанно. Что именно происходит в нашей памяти, мы толком сами не знаем. Для человека инструкция "Запомни!" в каком-то смысле сродни телеграмме: "Волнуйся. Подробности письмом!", ибо он не имеет ясного алгоритма, определяющего, что именно он при утом должен делать. Человек не способен осознанно управлять ни запечатлением информации в памяти, ни извлечением из нее этой информации. Мы забываем, не зная, почему мы это делаем. Забывание явно протекает иначе, чем в современном компьютере, – человек не пользуется кнопкой "Стереть информацию". Как, впрочем, не пользуется и кнопкой "Сохранить информацию" – никто не умеет осознанно управлять физико-химическими процессами. А ведь не бывает сознательного процесса без памяти. Память, как обычно любят говорить психологи, – сквозной процесс, пронизывающий всю психическую деятельность. Ну действительно, что бы человек ни делал, о чем бы ни думал, он должен хотя бы помнить о том, что это делает он, а не кто-либо другой, помнить язык, на котором он выражает свои мысли, помнить людей и предметы, о которых он думает, помнить, что он думал о них раньше, чтобы не думать о них все время одно и то же, и т. д. А поскольку способы извлечения той или иной информации из памяти не осознаются, то мы снова приходим к сделанному ранее выводу: причины хода мыслительной деятельности, невозможной без процесса извлечения из памяти, не могут полностью осознаваться.
Вообще сама работа памяти выглядит парадоксально. Поразительно, например, что человек способен осознавать факт забывания чего-либо. Иначе говоря, человек способен помнить о том, что он нечто забыл. Но что это значит? Еще много веков назад Августин Аврелий (признанный католиками святым, а православной церковью блаженным) изумлялся по этому поводу: "Каким образом я могу вспомнить то, при наличии чего я вообще не могу помнить?" Нелепо же считать, уверяет он, что в памяти моей нет того, о чем я помню. "Когда мы забываем и силимся припомнить, то где мы производим наши поиски, как не в самой памяти?" Его изумление по этому поводу было весьма велико. "Кто сможет это исследовать? Кто поймет, как это происходит?" – вопрошает он. И констатирует, не находя ответа: "Каким-то образом – хотя это непонятно и необъяснимо – я твердо знаю, что я помню о своей забывчивости, которая погребает то, что мы помним"26. Единственный способ вырваться из противоречия – признать: в памяти хранится информация, которую человек не осознает, но тем не менее как-то учитывает в своем поведении.
Теперь сравним это признание с собственными переживаниями в процессе припоминания чего-либо. Допустим, вы хотите вспомнить стихотворение, которое когда-то давным-давно знали наизусть, но давно уже к нему не возвращались. Прежде всего, пока вы не начнете вспоминать, вы не можете уверенно утверждать, какие куски этого стихотворения помните, а какие – нет. Даже если несколько строк всплывут в памяти, то вы, как правило, не осознаете, почему именно эти строки пришли вам на ум. Более того, вы чувствуете, что помните гораздо больше, чем можете вспомнить. Пробел в памяти от забытых слов – это вроде бы некое отсутствующее в сознании содержание, но тем не менее этот пробел каким-то невыразимым образом все же воспринимается сознанием. Отдельные слова как бы "вертятся на кончике языка". Вы, например, иногда можете сказать: здесь было какое-то длинное (или, наоборот, короткое) слово, а здесь оно начиналось (или заканчивалось) на такую-то букву и т. п. Как заметил великий американский психолог У. Джеймс, забытая фамилия "Спалдинг" – совсем не то же самое, что забытая фамилия "Бауле". Пробел от одного забытого имени переживается иначе, чем пробел от другого27. Парадоксально, но в нашей осознанной памяти существуют не только элементы, которые мы осознаем ясно и отчетливо, но и элементы, которые мы вообще не осознаем.
Многие психологи вообще утверждают: человек помнит всю когда-либо поступившую информацию. Конечно, подобное утверждение нельзя доказать – ни в одном эксперименте нельзя иметь дело со всей информацией. Но разве нельзя опровергнуть? Разве, дорогой читатель, вы помните все, например, что с вами происходило в младенческом возрасте? Однако оказывается, что при гипнотическом внушении человеку детского возраста он начинает вести себя как в детстве: говорить с такими же интонациями, писать таким же почерком, делать в письме такие же ошибки, какие он делал в детстве28. Иногда, конечно, загипнотизированный испытуемый просто пытается угодить гипнотизеру и не столько вспоминает, сколько придумывает свои воспоминания на основе собственного знания о том, как дети рисуют и пишут29. Но иногда испытуемые действительно вспоминают то, что в их сознании совершенно не содержится. Так, у взрослых людей при внушении им возраста новорожденности появляются физиологические реакции, которые никто не может сознательно имитировать (например, плавающие несинхронные движения глазных яблок или соответствующая возрасту электрическая активность мозга)30. В.Л. Райков, проводивший подобные опыты, рассказывает (личное сообщение), что, когда он внушил испытуемому, что тот еще находится в утробе матери, испытуемый вообще перестал дышать, и его пришлось срочно выводить из гипнотического состояния.
И без внушения люди иногда способны вспоминать поразительные вещи. Одна неграмотная немка еще в XVIII в. поразила наблюдателей тем, что во время болезни в горячке заговорила на древнееврейском, древнегреческом и латинском языках. Позднее выяснилось, что в возрасте девяти лет она жила в доме пастора. Пастор же любил расхаживать по коридору возле кухни, где жила девочка, читая ислух свои любимые тексты древних авторов. Когда женщина выздоровела, она не смогла вспомнить ни одного слова из того, что бормотала в бреду.
В качестве еще одного аргумента, характеризующего возможности человека хранить огромные массивы информации, часто приводят случаи феноменальной памяти. Оказывается, существуют люди, обладающие способностью к воспроизведению практически неограниченных массивов информации. Предъявленная информация воспроизводится ими без видимых усилий – с такой же легкостью, с какой мы, глядя на дом или дерево, без каких-либо осознанных усилий вспоминаем, что это именно дом, дерево. Пожалуй, самый яркий пример человека с феноменальной памятью подробно описан А. Р. Лурия31. Психологи не обнаружили у героя книжки Лурия – С. Д. Шерешевского – никаких ограничений ни на объем запоминания, ни на время хранения информации в памяти. Шерешевский, например, с первого предъявления безошибочно запомнил длинную строфу из "Божественной комедии" Данте на незнакомом ему итальянском языке, которую легко повторил при неожиданной проверке через 15 лет. При подобном феноменальном хранении информации, судя по всему, не проводится никакая работа сознания над подлежащим запоминанию материалом. Когда на одном из публичных выступлений Шерешевскому предложили запомнить ряд цифр: 3 6 9 12 15 и т. д. до 57, он это сделал, даже не увидев простой закономерности, лежащей в основе этого числового ряда32. "Если бы мне дали просто алфавит, я бы не заметил этого и стал бы честно заучивать", – признавался сам Шерешевский.
Может быть, еще более неожиданный случай описал Ч. Стромейер. Он сконструировал на компьютере два стереоскопических изображения, каждое из которых состояло из 10 тысяч точек. Если на эти изображения смотреть через стереоскоп, когда одно изображение предъявляется правому глазу, а другое – левому, то можно увидеть трехмерную фигуру. Если же смотреть на эти изображения без стереоскопа, то они выглядят совершенно бессмысленными. Испытуемая Стромейера – художница – обладала феноменальной зрительной памятью. Она была способна, посмотрев в течение минуты вначале правым глазом на одно изображение, потом – спустя 10 секунд! – левым глазом на другое, наложить их в памяти друг на друга и увидеть изображенную трехмерную фигуру. Для этого она должна была помнить расположение 20 тысяч точек!33
Поразительно: почти ничем не ограниченная возможность воспроизведения предъявленной информации хотя и встречается у людей гениальных (математик Гаусс, шахматист Алехин, композитор Рахманинов и пр.), но чаще наблюдается у представителей нецивилизованных племен, у детей и у лиц с выраженной умственной отсталостью. Если чудеса памяти чаще обычного демонстрируют люди с менее развитым сознанием, то разве удивительно сделанное выше утверждение, что каждый человек обладает феноменальными способностями хранения информации в памяти. Просто следует признать, что именно развитое сознание обычно мешает этим способностям проявляться.
Люди демонстрируют чудеса силы и ловкости, когда их действия не контролируются сознанием. У младенцев нескольких дней от роду наблюдается хватательный рефлекс (бессознательный акт подкоркового уровня регуляции) такой силы, что можно даже поднять ребенка, схватившегося за пальцы взрослого. Потом ребенку придется еще долго развиваться, чтобы уже на уровне сознательной регуляции научиться тому, что он от рождения умел делать бессознательно. Лунатики демонстрируют чудеса ловкости, недоступные им в сознательном состоянии: ходят по карнизам крыш, вскарабкиваются по веревке на башню и т. д. И не следует сознанию вмешиваться в хорошо автоматизированные действия бегуна или гимнаста, пианиста или скрипача – как правило, такое вмешательство сразу же приводит к сбою.
Считается, что сознание предназначено для отражения реальности и регуляции деятельности. Но, как мы убедились, и то и другое без осознания зачастую делается лучше. Может быть, сознание способствует приспособлению к среде и выживанию? Отнюдь нет. Для непосредственного решения задачи жизнеобеспечения сознание не только не нужно, оно может мешать, нарушая спасительные автоматизмы организма. Гораздо проще пройти по бревну, лежащему на земле, чем пройти по точно такому же бревну, осознавая, что это бревно положено над пропастью. Люди, попав в катастрофу, чаще погибают не от реального физического воздействия, а от ужаса, охватывающего их сознание. Вообще именно сознание побуждает якобы стремящегося к выживанию человека рисковать своей жизнью и здоровьем. Ведь геройство и мужество – это все-таки проявления величия, а не слабости сознания. Сознание даже включает в себя и свое отсутствие – неосознаваемое, оказывается, тоже каким-то образом осознается. В своих исследованиях я обнаружил, что то, что однажды не было осознано, имеет тенденцию при следующем предъявлении снова не осознаваться34. Так, то, что было не воспроизведено или не опознано, при следующем предъявлении имеет тенденцию снова не воспроизводиться или не опознаваться. Это удивительно: ведь для того, чтобы некий знак повторно не воспроизвести (или не опознать), надо помнить, что именно этот знак не следует воспроизводить (или опознавать), узнать его при повторном предъявлении и не воспроизвести (или не опознать). Еще пример: три неопытные машинистки печатали текст (примерно 16 тысяч слов) и сделали ошибки в среднем примерно в 4% слов. Вероятность совершить повторную ошибку в тех же самых словах составляет уже около 35%. Но ведь для того, чтобы в том же самом слове сделать новую ошибку (впрочем, и старую тоже), как-то надо помнить, что именно в этом слове ранее была сделана опечатка! Зачем? (Один мой коллега, знакомый с этими результатами, после работы на компьютере ворчал на меня, как будто я в чем-то виноват: колдун несчастный, я при наборе текста все время делаю одни и те же ошибки.) А вот в другом моем исследовании испытуемые читают вслух слова и выделяют те из них, в которых содержатся заранее указанные буквосочетания (например, "лес" и "лос"). Вероятность пропуска слов с этими буквосочетаниями в реальном эксперименте составила всего 7%. Однако через месяц при повторном испытании вероятность повторения той же самой ошибки намного увеличивается – 33%. А ведь речь идет о повторении ошибки в столь простом задании, как обнаружение буквосочетания "лос" в слове "полоса" или "лес" в слове "пылесос". И этакую-то ошибку человек, разумеется, никак того не осознавая, склонен повторять через месяц. Следовательно, однажды принятое решение о неосознании имеет тенденцию повторяться.
В. Ф. Петренко и В. В. Кучеренко в экспериментах совершенно другого типа демонстрируют, что человек действительно может целенаправленно не осознавать то, что хорошо воспринимает. "Испытуемым, которые находились в третьей стадии гипноза, характеризуемой, в частности, последующей амнезией, внушалось, что по выходе из гипноза они не будут видеть некоторые предметы. По выходе из гипнотического состояния испытуемых просили перечислить предметы, лежащие перед ними на столе, среди которых находились и "запрещенные". Испытуемые действительно не указывали на запрещенные предметы, но "не видели" также и другие предметы, семантически с ними связанные. Например, если испытуемым внушалось, что они не будут видеть сигареты, то они не замечали при перечислении не только лежащую на столе пачку сигарет, но и пепельницу с окурками и т. п. Некоторые предметы, семантически связанные с запрещенными, могли быть указаны испытуемым, но в этом случае он забывал их функцию. Например, один из участников эксперимента, указав на лежащую на столе зажигалку, назвал ее "цилиндриком", другой именовал "тюбиком для валидола", третий с недоумением разглядывал зажигалку, пытаясь понять, что это за предмет35.
Но зачем вообще нужно сознание, которое побуждает нас быть субъективными и совершать столько ошибок? Психологи в растерянности оставляют сознанию невнятно прописанную площадку: то ли оно – не очень понятно, с какой стати – специально миркирует некую информацию, то ли накладывает ничем не объяснимые ограничения на ее прием и переработку, то ли вообще служит помехой для полноценного функционирования человека. Сознание активно вмешивается в любой психический процесс, но как узнать, что же именно оно при этом делает? Наверное, у людей, размышлявших над подобными проблемами, были основания прийти в отчаяние.
На фоне этой полной неясности постоянно появляются люди, рассказывающие о совершенно фантастических вещах, которые вроде бы умеет делать сознание. Психологи относят подобные явления к категории паранормальных, обычно не любят даже вспоминать о них. Действительно, неоправданно жгучий интерес к разговорам о них среди обывателей и студентов-первокурсников, обилие аферистов, спекулирующих на жажде соприкосновения с таинственным, а также полное отсутствие каких-либо научных объяснений этих якобы наблюдаемых явлений мешает отнестись к ним всерьез.
Но все же о загадочных явлениях человеческой психики писали и звезды психологии первой величины. Вот В. М. Бехтерев рассказывает о мысленном внушении различных заданий собачкам В. Л. Дурова. Экспериментатор охватывал ладонями голову собаки и мысленно (иногда даже с завязанными глазами) – в течение полминуты – внушал ей, что она должна, например, забраться на диван и достать лежащую на мягкой спинке дивана кружевную салфетку, или снять зубами книгу с этажерки, стоявшей у стены комнаты, или еще что-нибудь подобное. И собака все это делала! Сам Бехтерев не дает этим опытам объяснения, но предлагает скептикам задуматься36. В1990 г. Ч. Хонортон с соавторами провел эксперимент по мысленному внушению. В нем использовалось компьютерное управление выбором и показом целевых изображений, звукоизолированные помещения, "слепое" судейство и автоматизированное хранение данных. В 355 опытах 241 получатель сигнала показал 34% попаданий при вероятности случайного угадывания – 25%. Вероятность случайного получения подобного результата – менее 0,00005!! Г. Айзенк и К. Сарджент уверяют, что эти исследования "настолько убедительны и выводы настолько близки к окончательным, насколько можно пожелать"37.
Но как решить, действительно ли подобное возможно, если мы вообще не понимаем, что в этом мире делает сознание? В общем, как пишут в учебнике, "таинственность, окружающая сознание, ставила в тупик величайшие умы в истории человечества"38.
Вопросы, которые касаются самых исходных оснований наших знаний, обычно просто не подлежат какому-либо эмпирическому исследованию. Действительно, ни в каком опыте нельзя исследовать, что было тогда, когда еще ничего не было (или что будет, когда ничего уже не будет). Тем не менее я убежден, что нельзя строить научное знание без хоть каких-либо ответов на подобные вопросы. Решение глобальных парадоксов, если оно вообще возможно, – всегда лишь логический трюк, изощренная словесная эквилибристика, поскольку других путей поиска ответа не существует. Этими трюками и богата философия, которая всегда ищет такое решение проблем, чтобы ответ был справедлив для любого – реального или даже только мыслимого – опыта.
Но сначала попробую кратко предуведомить читателя о своих философских вкусах. Выбор той или иной философской системы всегда субъективен, его нельзя доказать. Любая философская концепция заведомо так сконструирована, что она не может быть опровергнута никаким опытом, ибо любое опровержение в той мере, в которой оно хотя бы может быть помыслено, уже заранее должно соответствовать этой концепции. Поэтому ни одна концепция в философии никогда и не была непосредственно экспериментально опровергнута. (Другое дело, что те или иные высказывания философов на каком-то этапе развития науки отбрасывались как противоречащие опыту, если эти высказывания удавалось перенести на язык естественной науки – так, например, канули в Лету атомная теория Демокрита и утверждение Гегеля о противоречии ньютоновских концепций инерции и гравитации.) Выбор философской позиции тем не менее неизбежен: он задает точку отсчета, позволяющую смотреть на мир. Поэтому даже отказ от выбора философской позиции есть философская позиция, правда, как показывает история, не очень эффективная для построения научных теорий.
Я всегда с восторгом и упоением читал Платона (но не его приводящие в уныние "Законы" и "Государство"); именно Платон ввел меня в круг важных проблем, о которых я просто раньше не задумывался. Общему видению философской проблематики я, наверное, более всего обязан Б. Расселу. Без его "Истории западной философии" я бы, кстати, никогда не рискнул столь вольно и субъективно реконструировать историю психологии39. Философию математики открыли для меня "Доказательства и опровержения" И. Лакатоса, лекции по космологии, прослушанные мной в блистательном исполнении Р. И. Пименова, а позднее и работы В.Я. Перминова. Ироничного Д. Юма я прочел, уже будучи знакомым с его идеями по многочисленным пересказам. Однако ни один пересказ не смог передать ту детективную занимательность, которой насыщены его книги. А вот любимого мной И. Канта иногда мне все-таки тяжко читать, хотя его идеи вдохновляли меня едва ли не больше всего. Уж слишком, на мой взгляд, этого мудрого философа тянуло к избыточному педантизму в рассуждениях.
Всех повлиявших на меня философов даже не перечислить. Я полагаю, что любая выбранная психологом позиция должна найти способ непротиворечивой интерпретации других философских школ и вобрать ее достижения в себя, ибо любая серьезная концепция содержит в себе важное логическое или психологическое оправдание своего существования. Я уверен, что даже системы, которые мне совсем не нравятся – такие, как, например, феноменология и методологический анархизм, – содержат в своих построениях разумное начало, которое должно быть выявлено и включено в наличную систему знаний. Тем не менее, к сожалению или к счастью, есть несколько признанных великими авторов, которые всегда настолько раздражали меня, что я практически не мог их читать. Более того, никогда даже не читаю те книги, в которых на этих авторов часто ссылаются, так как заранее знаю, что никакой интеллектуальной радости я в итоге все равно не получу. Речь, прежде всего, идет об Аристотеле и Гегеле.
Гегеля воспринимаю просто со священным трепетом. "Феноменологию духа" не смог дочитать, возомнив – наверное, самонадеянно, – что нашел в ней множество логических ошибок. В итоге нескольких неудачных попыток разобраться в построениях короля диалектики у меня сложилось впечатление, что Гегель довел свои построения до такого всеобъемлющего логического конца, что они полностью лишились логического начала. Учитывая высокий ранг этого философа в мировой истории, я стал уже подумывать о каких-то своих личностных защитах, связанных с его текстами. Но затем обратил внимание на ту оценку, которую дают этому любителю мудрости самые ценимые мной авторы. Б. Рассел заявил, что почти все учение Гегеля не только ложно, но и требовало от его автора значительного невежества40. У. Джеймс признался, что, по его мнению, Гегель писал до того отвратительно, что он отказывается его понимать41. Вл. Соловьев писал: "Логика Гегеля, при всей глубокой формальной истинности частных своих дедукций и переходов, в целом лишена всякого реального значения, всякого действительного содержания, есть мышление, в котором ничего не мыслится"42. К. Поппер идет еще дальше, полагая Гегеля наглым мошенником, стремившимся лишь обмануть и сознательно запутать своих читателей, а его учение – откровенной клоунадой и блефом. Поппер уверен, что слава Гегеля была сотворена людьми, которые вместо трудоемкого пути науки избрали выстроен не отягощенное знанием "посвящение" в якобы не доступные простым смертным секреты этого мира43.
Наверное, работы Гегеля не были лишены замысла, его загадочная терминология даже стала событием в истории культуры. Но он не обладал мудростью Сократа и самоуверенно считал, что постиг окончательную Истину, чем отличался от всех остальных смертных, для которых Истина, как он сам утверждал, – это всегда лишь процесс. Задумайтесь: а что, собственно, мог сделать амбициозный и не слишком одаренный мыслитель, получивший из рук прусского монарха, разбирающегося в философии строго в соответствии со смоги должностью, титул самого лучшего философа? Ну во-первых, прославлять прусскую монархию как вершину достижений мирового духа, а во-вторых, писать настолько глубокомысленно и непонятно, чтобы никто не догадался, что сам философский король – голый. Но ведь именно это Гегель и делал! У него просто не было иного выхода. Самую убийственную оценку Гегелю дал А. Шопенгауэр, знавший его лично: "Гегель, назначенный властями сверху в качестве Великого философа, был глупый, скучный, противный, безграмотный шарлатан, который достиг вершин наглости в преподнесении безумнейшей мистифицирующей чепухи"44.
Мне доводилось встречаться с людьми, восхищавшимися Гегелем и как философом, и как стилистом, но так и не удалось понять, что же именно приводит их в восторг. Тем не менее на флаге психологии как науки гуманитарной должно стоять имя Гегеля, ибо его влияние на развитие психологи огромно, хотя, признаюсь, и не достаточно отрефлексировано. Так, гуманистическая психология умудрилась многие свои построения заимствовать именно у Гегеля. Психологи, правда, выразили его напыщенные конструкции куда более вразумительными словами, но все равно эти слова остались не до конца понятными. Как правило, психологи-гуманисты, психологи – феноменологи – это вдохновенные и мудрые практики. Но присущее их теоретическим обобщениям родство с гегелевским словоблудием вызывает очень серьезные опасения.
И все же самым скучным и неудобочитаемым для меня всегда оставался Аристотель. Восхищенных аристотелианцев сейчас, конечно, не найти. Более того, многие вообще не считают его оригинальным мыслителем – К. Поппер, например, по стилю и пристрастию к решению любых вопросов приравнивает его к посредственным писателям45 – но все же не случайно его имя переводят как "наилучший завершитель"46. Влияние Аристотеля на становление европейской науки до сих пор считается решающим. Он так все удачно завершил, что далее можно было только отказываться от того, что он сделал. Я даже придумал эвристику, до сих пор меня не подводившую: если по мучающей меня проблеме Аристотель что-то говорил, то точно ошибался, и надо найти ошибку. Признаюсь, впрочем, что Аристотель уникален как образец всепобеждающего здравого смысла. Но, как остроумно и точно говаривал В. А. Ганзен, наука отличается от здравого смысла именно тем, что она от него отличается47.
Труднее всего тем не менее найти то, в чем именно ошибается здравый смысл. Опровержение утверждений Аристотеля составляет суть естественной науки Нового времени. Это отмечают даже те авторы, которые относятся к Аристотелю с принятым в истории науки пиететом. Вот как А. А. Любищев характеризует становление естественной науки: "То время было ознаменовано решительной борьбой с авторитетом Аристотеля, и эта борьба, как мы знаем, принесла огромную пользу свободному развитию науки"48. Т. Я. Дубнищева также говорит о формировании науки Нового времени: "Основной принцип новой науки – перейти от аристотелевских схем к изучению природы"49. Если вслед за К. Поппером считать опровергаемость главным критерием научности, то вполне справедливо, что Аристотель считается величайшим ученым всех времен и народов. (Правда, сам Аристотель не любил ученых, считая, что "чрезмерно ревностное занятие науками с целью их тщательного изучения" причиняет вред50.)
Психологи же, к сожалению, явно недооценивают редчайший эвристический дар "отца европейской науки" по части умения ошибаться и весьма стандартно подчеркивают лишь его, как предполагается, прогрессивный вклад в развитие науки о душе. Более того, на флаге психологии как эмпирической науки явно (хотя, на мой взгляд, не слишком оправданно) начертано имя Аристотеля. Поэтому-то М. Г. Ярошевский вполне справедливо написал, что "связанное с именем Аристотеля понимание природы психического получило резонанс в веках"51. А С. Эверсон в порыве восторга даже в 1997 г. (!) уверяет, что психология Аристотеля "знаменует собой более глубокое понимание" этой науки, чем это свойственно многим современным психологам52. Давайте приглядимся, какие же такие идеи, во многом еще не понятые нашими современниками, смогли вызвать резонанс, длящийся тысячелетия. Приведу все высказывания Аристотеля, включенные М. Г. Ярошевским в свой учебник по истории психологии, – видимо, они произвели на него самое сильное впечатление. (С равным успехом я мог бы набрать цитат и из любого другого учебника – эффект был бы тот же.) Не обращайте внимание на шершавость аристотелевского стиля, который, конечно же, нельзя сравнивать с блестящими по форме диалогами Платона. Главное – попробуйте почувствовать непреходящую мощь его высказываний: "Необходимо душу признать сущностью, своего рода формой естественного тела, потенциально одаренного жизнью". "Души от тела отделить нельзя". "Если бы глаз был живым существом, душой его было бы зрение". "Невозможно различить посредством отдельных чувств, что сладкое есть нечто отличное от белого, но и то и другое должно быть ясно чему-нибудь единому". "Тело представляет собой среду, приросшую к осязающему органу, через нее возникают ощущения во всем многообразии". "Ощущение есть то, что способно принимать формы чувственно воспринимаемых предметов без их материи, подобно тому, как воск принимает оттиск печати". "Косвенно нами воспринимаются при каждом ощущении: движение, покой, фигура, величина, число, единство". "Душа не мыслит без образов". "Теоретический ум не мыслит ничего относящегося к действию и не говорит о том, чего следует избегать и чего надо домогаться". "Всякий в состоянии гневаться, и это легко, также и выдавать деньги и тратить их, но не всякий умеет и нелегко делать это по отношению к тому, к кому следует, и насколько и когда следует, и ради чего и как следует".
Некоторые конкретные и понятные без долгих раздумий высказывания гиганта античной мысли сегодня могут сразу квалифицироваться как ошибочные (например, утверждение, что мышление всегда образно или что местом обитания человеческого духа является сердце). Но не так просто догадаться, в чем именно не прав Аристотель в других своих утверждениях. Прежде всего, потому, что часть его утверждений метафорична, другая кажется такой банальностью, что ее и опровергать нелепо. Попробуйте опровергнуть любое из приведенных высказываний – вы быстро столкнетесь с невероятными трудностями. Но если вам это все-таки удастся, вы неизбежно построите иную психологическую науку. В ней не будет ни оттисков на воске (следов памяти), ни единого чувствилища, "возводящего мост между ощущением и мышлением"53, ни внутрителесных изменений в процессе познавательной деятельности, ни разрыва между познанием и аффектами, ни трактовки внешних предметов как таких, которые подобно огню, поджигающему фитиль, запускают в действие ощущающую способность, ни многого другого, привнесенного в европейскую науку величайшим по своему здравомыслию античным философом.
Но, разумеется, самым важным является реакция на главное достижение Аристотеля – создание формальной логики (впрочем, этот термин предложен И. Кантом, сам Аристотель его не употреблял, он использовал только наречие "логично", да и то при описании вербальных техник в процессе дискуссий). Даже К. Поппер считает, что Аристотель заслуживает за это нашей глубочайшей признательности. Т. Котарбиньский справедливо подытоживает огромное влияние героического труда великого грека в области логики: "Сотни и даже тысячи лет "пережевывали" его идеи". (При этом все же предлагает изучать логику по современным публикациям, ибо после них, заверяет он, "ничего нового и важного у Аристотеля не найти".) Что же было самым выдающимся в творчестве античного титана? Вот мнение К. Поппера: "Каждая дисциплина, как только она начинала использовать аристотелевский метод определений, останавливалась в своем развитии,
впадая в состояние пустых словопрений и голой схоластики... Именно поэтому наша "социальная наука" до сих пор в основном принадлежит к средним векам"54. Сами логики считают важнейшим итогом его работ признание того, что "силлогистика (т. е. логика. – В. А.) – это не психология"55. Правда, эту очевидность почему-то приходится все время подтверждать. М. Минский, например, считает нужным в очередной раз пояснить: "Я не очень-то верю, что нечто формально-логическое могло бы служить хорошей моделью человеческого мышления"56. Изящно формулирует различие между психологией и логикой Б. Рассел: "Психология есть то, что имеет место, когда мы верим в высказывания; логика есть, возможно, то, что должно было бы иметь место, если бы мы были логическими святыми"57.
Раз логика – это не психология, то многие психологи, видимо не слишком приученные размышлять с помощью силлогизмов Аристотеля, сделали ошибочный вывод, что психология – это не логика. Отсюда уже следовало, что психика не может быть описана с помощью логики или, в лучшем случае, что психика – это какая-то иная, не подлежащая формальному описанию логика. (Вот пример, поясняющий логическую природу этой ошибки: из того, что "все черствые булочки – невкусные" не следует, что "все невкусное – это черствые булочки".) Я предлагаю избавиться от этой ошибки и солидаризируюсь с К. Поппером, который утверждал: "Что верно в логике, то верно и в психологии"58. Психология как наука обязательно должна быть логичной. Сделанный же по недоразумению вывод о нелогичности психического оказался самым чудовищным подарком, который Аристотель невольно принес психологии. Разрушительное влияние такого взгляда – хотя Аристотель именно в этом был меньше всего виноват – до сих пор мешает строить психологию как науку.
Впрочем, возвращаясь к анализу исходных предубеждений, признаюсь, что я не знаток философских пассажей вообще, а аристотелевских – тем более, поскольку не был способен их дочитать. Философские дискуссии – отнюдь не моя стихия. Да я и сам не всегда всерьез принимаю собственные оценки философских проблем, ведь, как показывает накопленный мной жизненный опыт, они все же иногда меняются. Допускаю, что читатель вправе отнестись к последующему тексту этой главы как к суждениям человека поверхностного и весьма субъективного. Что ж! И рад бы в рай, да грехи не пускают. Наверное, представленные ниже и, пожалуй, чересчур свободные экзерсисы могут даже вызвать недовольство философов. Единственный спасающий меня аргумент: я лишь пытаюсь, опираясь на конкретную психологическую концепцию, найти логически оправданный выход из существующих парадоксов. Хотя предлагаемый подход разрубает отдельные гордиевы узлы и позволяет увидеть вечные проблемы с такой стороны, с какой на них еще никто не смотрел, но, конечно, не стоит полагать, что именно на таком пути окончательно решаются все головоломки.
В заключение кратко сформулирую принятые мной предпосылки. Мне нравится позиция, которую К. Поппер назвал критическим рационализмом: никто не обладает и не может обладать знанием окончательной Истины, каждый может ошибаться, но совместными усилиями, прислушиваясь к критическим замечаниям и опираясь на накопленный опыт, мы постепенно к истине приближаемся59. Согласно этой позиции, ученые – не носители Истины, они всего лишь ее искатели. Но их поиск приводит к лучшему пониманию устройства мира. Наука способствует постижению Истины и направлена на познание того, что есть на самом деле. Правда, путь науки довольно своеобразен. Мне нравится поясняющий образ, созданный М. А. Розовым. Он сравнивает развитие научного знания с производственным конвейером, где каждому следующему рабочему попадает не основной, а побочный продукт деятельности: "Например, один рабочий обтачивает деталь, но следующему она не нужна, а нужны только опилки; он тщательно сметает их и собирает, а третьему рабочему, оказывается, нужна только щетка, которая при этом наэлектризовалась"60. Итак, я верую, что природа вообще и природа сознания в частности рационально постижимы. Соответственно я уверен, что психология может быть построена по канону естественной науки и что она сможет найти ответы на самые главные вопросы о человеке и его сознании. Я знаю, что человек свободен в выборе своих действий и что это не противоречит детерминизму – правда, детерминизму, признающему случайность в качестве необходимого атрибута реальности. Наконец, я догадываюсь, в чем состоит работа механизма сознания и как этот механизм проверяет свои гипотезы.
Я отчасти принимаю взгляд (восходящий к Л. Витгенштейну и столь излюбленный в постмодернизме), что ученые, занимаясь наукой, играют в некие игры, прежде всего языковые, правда, в отличие от постмодернистов, убежден, что наука к этим играм не сводится. (Впрочем, постмодернисты не столь уж последовательны, ибо собственные произведения не считают одной только языковой игрой61.) Я исхожу из того, что по природе языковой игры, в которую играют ученые, научное описание мира не может быть протинорсчииым (диалектические словоизвержения поклонников Гегеля при этом я оставляю без комментариев и без внимания). А значит, не может существовать нескольких разных Истин. Придерживаться двух противоречащих друг другу идей – значит "флиртовать с абсурдом", что психологически невозможно62. А раз я надеюсь, что и самая увлекательная из всех наук – психология – действительно ищет Истину, то в этих поисках следует исходить из того, что психическое в принципе подлежит логическому, т. е. непротиворечивому, описанию. Другое дело, что такое описание никогда в полной мере не достижимо. Раз Истина всегда одна и не может быть противоречивой, то принятие в качестве верных сразу нескольких концепций, описывающих одну и ту же предметную область и при этом противоречащих друг другу – что весьма типично для современной психологии, – это сигнал незрелости пауки и ошибочности всех (в лучшем и очень редком случае – всех, кроме одной) концепций.
Я допускаю, что на наши познавательные возможности могут быть наложены какие-то ограничения. Понятно, что вряд ли мы когда-нибудь точно узнаем, что конкретно чувствовали жители Помпеи во время извержения Везувия или как мы сами переживали момент своего появления на свет. Однако могут быть и иные – более принципиальные – ограничения познавательных возможностей, которые мы не знаем и не способны непосредственно осознавать. Как заметил Дж. Серл, "будет ошибкой считать, будто все существующее доступно нашим мозгам". Но для того чтобы осознанно узреть границу наших возможностей, надо находиться по обе стороны этой границы, что заведомо невозможно. Тем не менее из того, что мы не знаем и не можем знать ограничений, наложенных на возможности нашего познания, не следует, что они существуют или, наоборот, не существуют. Поэтому в реальном исследовании следует исходить из того, что у познания (в том числе познания природы сознания) нет никаких границ – по крайней мере до тех пор, пока не доказано обратное. Серл формулирует эту мысль следующим образом: "Нам следует поступать так, как если бы мы могли понимать все, поскольку нет способа узнать, чего мы не можем понять"63. Я согласен с такой позицией.
И еще одно важное допущение: в психологическом исследовании до тех пор, пока не доказано обратное, надо исходить из того, что деятельность сознания возможна, только если она обеспечивается соответствующими физиологическими механизмами. Однако – и в этом существенное отличие моей позиции от канонического материализма советской эпохи – логика такой деятельности не этими механизмами определяется. Эти механизмы – здесь я полностью солидарен с Е. А. Климовым – таковы именно потому, что предназначены обеспечивать психическую деятельность. (Приверженцам марксизма напомню классическую формулу на сходную тему: анатомия человека – ключ к анатомии обезьяны.) Только тогда, когда нам удастся понять логику сознательной деятельности, мы сможем понять и логику работы обеспечивающих эту деятельность физиологических механизмов.
А теперь приглядимся повнимательнее к вечным головоломкам.
Природа сознания неведома. Никто не знает, как и почему оно возникает, не знает, как грубая материя порождает нечто идеальное и эфемерное, именуемое душой. Уже само существование сознания ведет во тьму головоломок. Но пока мы рассмотрели лишь эмпирический фон, который следует учитывать в рассуждениях о природе сознания. Продолжение раздумий ведет в еще более глубокий тупик, но теперь уже не эмпирический, алогический. Действительно, само сознание не осознает, откуда оно происходит. Но ведь когда-то его не было, а потом оно вдруг возникло. Что же было причиной его появления на свет? Как бытие, говоря философскими терминами, порождает сознание? Где граница между духом и телом? Эти вопросы относятся к онтологической проблеме. Многие психологи и психотерапевты признаются в грандиозности и нерешаемости этой проблемы. Психотерапевт М. Е. Бурно с трепетом (и видимо, с удовольствием, поскольку сам себя многократно цитирует) признается: "Это есть великая, вечная Тайна"64.
Попробую сформулировать обсуждаемую проблему на простой модели. Представим себе фантастическую ситуацию. Допустим, инженеры будущего лет через сто, пятьсот или через тысячу на компьютере очередного нового поколения (можно ли сегодня предугадать возможности этакого технического монстра?) смоделируют все законы физиологии и психической деятельности, которые к тому времени откроют десятки сменяющих друг друга поколений физиологов и психологов. Легко представить себе, что такой компьютер будет обладать способностью самопрограммирования и отражения собственного состояния, он будет прекрасно обучаться (в частности, будет способен сам овладеть речью в языковой среде). Кроме того, он будет способен делать многое-многое другое, о чем мы сейчас и помыслить не умеем. (Вообще говоря, это вполне может быть даже некий биокомпьютер, построенный из органических соединений на основе улучшенного генома человека.) Но при всем при этом компьютер останется компьютером, т. е. только моделью человека, пусть самой замечательной, но не самим человеком. Компьютеры, как справедливо говорят знающие люди, – это "сама бессознательность"65. Поэтому мы вправе предположить, что, несмотря на все сказанное, у этой модели не появилось никаких субъективных переживаний, что она не способна что-либо осознавать, не способна радоваться и грустить, любить и ненавидеть, чувствовать свою правоту и сомневаться.
А теперь страшный вопрос: можно ли что-нибудь добавить к этой замечательной модели, чтобы она при этом стала бы обладать субъективными переживаниями? Или иначе: существует ли какая-нибудь вещь (не важно, будь то физиологическая, психологическая конструкция или что иное), стоит лишь смоделировать которую на компьютере, как наш компьютер станет не просто самым совершенным в мире автоматом, а субъектом, обладающим сознанием? Это есть переформулировка знаменитой психофизиологической проблемы: вследствие чего у такого блистательного физиологического автомата, каким является человек, возникают субъективные переживания?
Философы не смогли найти удовлетворяющее всех решение психофизиологической проблемы66. Предлагаемый ими вариант ответа: "Скорее всего, автомат может породить субъективное" – мало что дает, если мы не знаем, что именно надо добавить к автомату, дабы это произошло. Если же ответ на поставленный вопрос: "Нет, никогда ни при каких условиях автомат не сможет ничего субъективно переживать", то такой ответ тоже ни на чем не основан, лишь признается, что ментальное принципиально отлично от материального и ни при каких условиях не может являться порождением последнего. Но мы ведь рассматривали абстрактный автомат, в который можно встроить все, что мы понимаем. Признать, что наш автомат никогда не будет обладать сознанием, – значит, признать, что субъективное в принципе не подлежит пониманию и детерминированному описанию. Явление сознания тогда – что-то заведомо таинственное, до конца не разгадываемое и не известное. Из этого ответа, в частности, следует, что психологическое знание принципиально неполно, так как ограничено в самой существенной своей части, что психология – ущербная наука, которой не дано познать самое для нее важное – субъективную реальность.
Впрочем, можно признать, что заданный вопрос о возможности возникновении субъективного переживания у материальной модели не имеет никакого смысла, так как верный ответ на него в принципе никогда (и даже через 1000 лет!) не может быть получен, потому что не может быть проверен. Ведь, мол, надежных критериев наличия субъективного переживания не существует. Эта позитивистская (и, соответственно, бихевиористская) позиция, разумеется, не противоречит ни логике, ни опыту (впрочем, такого опыта ни у кого из нас и не будет – кто ж проживет тысячу лет??). Но она уж точно ничего не объясняет.
Мудрецы давно задумались над самой общей из всех разновидностей онтологической проблемы: откуда появилось то, что существует (т. е. бытие)? Оно происходит из небытия? Это предположение невероятно: из ничего вроде бы ничего не может происходить. Тогда откуда все взялось? Эта простенькая головоломка смущает умы любителей мудрости уже много тысячелетий. У. Джеймс цитирует А. Шопенгауэра: "Мысль о том, что небытие мира столь же возможно, как и его бытие, является импульсом, который сообщает движение непрестанно идущим часам метафизики". И добавляет от себя: "Философия изумленно созерцает загадку, но не дает ей никакого разумного решения, ибо нет логическою моста от небытия к бытию"67. Даже физические теории Большого Взрыва, сворачивая всю материю в начальной точке во что-то наподобие пол-литровой банки, не могут объяснить, как возникла эта начальная точка, т. е. не знают, откуда сама материя взялась. Признаюсь, трудно представить себе хоть один вариант вразумительного и доказательного ответа на столь абстрактный вопрос. Более того, любое решение никогда не может быть окончательным. Что бы ни было названо исходным, всегда можно спросить, из чего это исходное произошло.
Здравый смысл своеобразно решает такие проблемы. Известен анекдот, связываемый в исторической памяти как раз с именем У. Джеймса. (Правда, рассказывающий эту историю Дж. Росс замечает: "Я не смог найти никаких опубликованных ссылок на нес, так что, возможно, она приписана другому лицу или является апокрифической".) После лекции Джеймса об устройстве Солнечной системы к нему подошла маленькая старая дама и заявила, что у нее есть гораздо лучшая теория: Земля – это блин, который покоится на панцире гигантской черепахи. Джеймс вежливо спросил: "Если, сударыня, ваша теория верна, то объясните, на чем стоит эта черепаха?" "О мистер Джеймс, – ответила старая дама, – вы очень умный человек и задали хороший вопрос. Но я знаю ответ: первая черепаха стоит на панцире второй, гораздо большей черепахи!" "Но на чем же стоит эта вторая черепаха?" – задал следующий вопрос Джеймс. И вот внимание: слушаем голос здравого смысла! Старая леди торжественно вскричала: "Ничего не выйдет, мистер Джеймс! Там дальше вниз идут одни черепахи!"68
Считается, что Аристотель как раз и выдвигает решение онтологической проблемы, типичное для здравого смысла: дальше вниз идут одни черепахи, т. е., простите, дальше вниз идет одно бытие. Иначе говоря, бытие существует всегда. Разумеется, так думали многие не зависимо от античного философа. В одном из древнейших памятников древнеиндийской мысли эпохи Упанишад – в Чхандогья – уже делается попытка логического доказательства, что Сущее существует всегда, ибо оно никак не могло произойти от не-Сущего69. А потому онтологической проблемы вообще как бы и нет. Действительно, такое решение проблемы, до сих пор, кстати, поддерживаемое многими современными физиками, выглядит соблазнительно простым. Но уж слишком оно попахивает банальным позитивистским уходом от вечных проблем. К тому же, как я уже говорил, Аристотель вообще обладал удивительным чутьем на совершение ошибок.
Впрочем, могут быть и другие вполне логичные решения, отличающиеся от позиции Аристотеля. Н. Гудмен, например, предполагает, что наш мир сделан из других миров: всякое создание, считает он, есть переделка70. Но, разумеется, отказывается решать, что было до этих самых других миров, мол, поиск универсального начала лучше оставить богословию. Более популярна другая логическая идея, которая, впрочем, тоже далеко не все решает: небытие содержит возможность бытия. А. В. Курпатов и А. Н. Алехин с некоторым пристрастием к гегелевской терминологии трактуют возможность одновременно и как ничто, и как имманентно присущее всему предсуществование71. К. Поппер говорит проще: каждое событие обладает предрасположенностью к своему осуществлению. Предрасположенности, – заявляет он, – это не просто возможности, а физические реальности наподобие силовых полей72. Впрочем, вопрос о происхождении бытия может далеко завести. Посему здесь остановимся и вернемся к проблеме происхождения сознания.
По существу, эта проблема тождественна вопросу: можно ли построить такую психологическую теорию, логическим следствием которой было бы признание неизбежности факта субъективного переживания, осознания? В конце концов, вся история психологии – это как раз усердный, но не слишком успешный поиск ответа73. Весь ужас проблемы связан с тем, что сознание не может определяться ни физическими, ни биологическими, ни физиологическими законами. В противном случае оно было бы не способно самостоятельно принимать свободные, не зависимые от физики и биологии решения, вообще не могло бы во что-нибудь вмешиваться, а следовательно, должно было бы "быть выброшено за ненадобностью". А часто встречающееся утверждение, что сознание порождается социальными процессами, вообще выглядит нелепостью: ведь, согласно этой версии, получается, что люди, не имеющие никаких проблесков сознания, каким-то чудным образом умудряются создать язык и общество, а те, в свою очередь, неведомо как и зачем образуют у каждого отдельного человека феномен осознанности74.
Может быть, стоит принять, что в неосознаваемом бытии находится возможность (предрасположенность) возникновения осознаваемого бытия? Но что это значит? Где именно находится эта возможность? Какими механизмами реализуется?
Среди разных попыток решения проблемы возникновения сознания существует и такая: сознанию приписывается статус особого природного явления. Тогда сознательное (идеальное) вообще не рассматривается как следствие каких-либо материальных процессов, а оно – что-то иное. Так мы приходим к дуализму, бытие изначально состоит по меньшей мере из двух не сводимых друг к другу субстанций – материи и духа. Иначе говоря, сознание существует всегда наряду с материей, а потому незачем объяснять, откуда оно взялось. Однако такой вариант снятия проблемы не кажется удовлетворительным, по крайней мере до тех пор, пока не будет объяснено, что это за странный природный (т. е., по буквальному смыслу слова, физический) процесс такой, именуемый сознанием.
Пока же дуализм мало кому нравится. Как писал в начале XX века известный русский психолог А. Ф. Лазурский, "ум человеческий никогда не останавливается на этом двойственном объяснении". И добавлял: "это неискоренимое стремление человеческого рассудка" привело к признанию единства всего существующего, к монизму75. По мнению П. Я. Гальперина, "подлинным источником "открытого кризиса психологии" был и остается онтологический дуализм – признание материи и психики двумя мирами, абсолютно отличными друг от друга"76. А Дж. Серл в конце XX в. высказался еще жестче: "О дуализме в любой его форме не может быть и речи, поскольку считается, что он не согласуется с научной картиной мира"77.
Иногда в живых существах видят особую жизненную силу (vis vitalis, отсюда – витализм), напрямую связываемую с психикой. Этому способствовал и авторитет Аристотеля, любившего своим своеобразно шершавым языком говорить здравоосмысленные банальности. Я уже приводил его знаменитое высказывание: "Необходимо душу признать сущностью, своего рода формой естественного тела, потенциально одаренного жизнью". Если принять такую позицию, то принципиальная возможность субъективных переживаний у нашей компьютерной модели связана с проблемой наличия жизни у такой модели. Действительно, можно ли компьютер сделать живым? Тем самым дополнительно порождается иной – тоже пока неразрешимый – вариант онтологической проблемы: как из неживого бытия возникает жизнь? Что вообще означает "быть живым"? Где граница между жизнью и смертью? Вирусы, ферменты, гены, сухие бактерии, виноградные косточки – живые? Космос – живой? Петух, которому отрубили голову, способен пробежать несколько шагов – он в это время живой? Человек, реанимированный из состояния клинической смерти, был в состоянии смерти живым? "Может быть, – провокационно спрашивает В. В. Налимов, – неживым мы называем просто то, в чем не умеем видеть живое?"78 Сегодня, наверное, никто точно не скажет, что же конкретно надо ввести в модель, чтобы ее можно было однозначно оценить как живую. Но даже если кому и удастся сделать такую оценку, то на самом деле все равно не ясно, как решить, есть ли субъективные переживания у виноградной косточки, муравьев, обезьян или тем более у космоса. Впрочем, учебное пособие по экологии, написанное выдающимися специалистами, решило эту проблему с достоинством и поражающей воображение простотой: "Сознание – это свойство передвигающихся животных"79.
Многие философы и психологи связывают жизнь с познанием. X. Плеснер предлагал рассматривать жизнь как "бытие для созерцания"80. "Жизнь как процесс познания" – так называет целую главу своей книги К. Лоренц81. Ему вторит У. Матурана: "Живые системы – это когнитивные системы, а жизнь как процесс представляет собой процесс познания"82. Дж. Келли заявляет: жизнь – это "отношение заинтересованности между частями нашею мира, I) котором одна часть – живое существо – способно побудить себя к тому, чтобы репрезентировать другую часть – свое окружение"83. (Текст Ф. Шиллера из "Кассандры": "Жизнь заключается в ошибках, Познанье означает смерть", разумеется, не столько противоречит, сколько подтверждает сказанное: когда познание закончится, т. е. станет безошибочным, тогда, полагает поэт, закончится и жизнь.)
Из всего этого можно сделать разные выводы. Когнитивисты решили: уж если сама жизнь – это познание, то сознание должно быть неизбежным следствием протекания познавательных процессов. Но они сами заявляют, что не знают ни что такое сознание, ни что оно делает. Для них главный процесс, осуществляемый психикой, – это процесс переработки информации. Поэтому они все же готовы предположить, что часть перерабатываемой информации специальным образом маркирована как осознанная84(хотя они, разумеется, не поясняют ни как, собственно, осуществляется маркировка, ни какую роль она играет). Тем самым они признают, что мозг обрабатывает два разных типа информации: обычную и осознанную. В итоге онтологическая проблема может быть переформулирована так: что надо сделать, чтобы маркированная информация субъективно воспринималась? Или: существует ли такой физически реализуемый способ маркировки информации, чтобы при переработке маркированной этим способом информации возникало субъективное переживание? Понятно, что пере формулировка сама по себе проблему не решает, тем не менее есть надежда, что если проблема не решается в лоб, то иногда даже просто иное ее выражение может иметь эвристическое значение.
Но пока все же остается грустно развести руками и признать, что ясный логический выход из обсуждаемого тупика пока никто не предложил. О чем, собственно, идет речь, когда мы говорим о сознании, на самом деле никому не известно. В общем, как точно сказал М. К. Мамардашвили, "сознание есть нечто такое, о чем мы как люди знаем все, а как ученые не знаем ничего"85. Но, уважаемые коллеги-психологи, если мы ничего не знаем о сознании, то чту же мы вообще как психологи знаем?
Вот еще одна удручающая многих разновидность онтологической проблемы: с чего вдруг на каком-то этапе эволюции биологических систем возникает социальное? Б. Ф. Поршнев удачно формулирует базовое противоречие: "Социальное нельзя свести к биологическому. Социальное не из чего вывести как из биологического"86. Существует несколько неудачных, хотя и весьма популярных, версий происхождения социального. Чтобы почувствовать всю трагичность ситуации, к ним стоит приглядеться повнимательнее.
Первая версия: чем выше на эволюционной лестнице находится животное, тем более совершенные способы приспособления оно вынуждено использовать. Так, согласно А. Н. Леонтьеву, когда животные переходят к более сложным формам жизни, им уже требуется психика. Психика тем самым есть продукт усложнения жизни, вторят Леонтьеву его последователи. Поэтому, утверждают они, психическая деятельность возникает раньше нервной87. Данная версия уже на этой стадии рассуждений выглядит крайне загадочно. Жил, например, себе червь и до сих пор живет. Зачем было его потомкам усложнять себе жизнь? Не понятно, зачем вообще животное передвигается по эволюционной лестнице, если ему там труднее выжить. Сам Леонтьев чувствовал проблему. Поэтому он к предшествующему высказыванию о роли усложнения жизни в возникновении психического добавлял характерное "и наоборот": само усложнение жизни – следствие способности психического отражения88. После такого дополнения данное Леонтьевым объяснение о происхождение психического можно считать аннулированным.
Как бы то ни было, но "наиболее развитая ветвь животного мира" – человек – достигает пика эволюции. Тут уже, говорят сторонники данной версии, ему и психики становится мало: он конструирует социальные (в частности, трудовые) отношения. И.Л. Андреев поясняет это так: человек оказывается перед выбором "либо вымереть, либо найти "неживотные" средства, чтобы выжить"89. Но как происходит, что животное, которому не хватает животных средств, не погибает? Как оно способно породить "неживотные" средства, которых у него до этого не было?
Представители второй версии чувствуют логическую несуразность первой. В. Г. Асеев утверждает: повышение психических возможностей никакому живущему организму не только не нужно, оно гибельно90. По этой версии, все происходит строго наоборот. Не новые функциональные задачи вызывают необходимость возникновения ранее неведомых способов приспособления, а новые способы приспособления приводят к возникновению и решению новых задач. Так, биологическая эволюция мозга приводит к тому, что сам этот орган все более и более усложняется. А чем сложнее любая система, тем она медленнее, тем труднее перестраивается, а потому должна погибнуть. Единственный путь – использовать преимущества сложной системы и, например, предугадывать и объяснять ход будущих событий. Л. И. Божович так объясняет возникновение социального в онтогенезе: "Кора головного мозга ребенка уже с момента рождения представляет собой орган такой степени сложности, при которой он для своего развития нуждается в специальной организации раздражителей со стороны взрослого человека и в постоянном их усложнении"91. Кора должна функционировать, иначе организм погибнет. Ведь если раздражений не хватит, утверждает Божович, то это может вызвать смерть. А потому становление социальных отношений становится биологически целесообразным.
В свою очередь, представители первой версии видят логическую странность второй. Усложнение головного мозга не имеет никакого биологического оправдания, говорят они. Ведь такое сомнительное эволюционное приобретение приносит организму только вред. Беспомощные человеческие существа с огромным мозгом должны были бы погибнуть, а не создавать социальные отношения. В чем же может заключаться биологический смысл вредных эволюционных изменений? Я знаю только один логически выверенный, хотя и весьма головокружительный, ответ на сделанное возражение. Его автором является Б.Ф. Поршнев.
Он, прежде всего, признает: мышление и в антропогенезе, и в онтогенезе у ребенка на первых порах всегда вредно для организма, так как делает его беспомощнее по сравнению с животными. "Но как же, если исключить всякую мистику, объяснить это "неполезное" свойство? Ведь естественный отбор не сохраняет вредных признаков"92. И придумывает логический трюк, специально сконструированный, чтобы распутать столь коварную головоломку: это свойство, утверждает он, могло сохраниться только в результате искусственного отбора. И далее рассказывает по сути детективную историю. Архантропы, по его словам, были людоедами. Они поедали наиболее беспомощных представителей своего вида. Постепенно они стали специально разводить представителей "поедаемой ветви". В результате наиболее беспомощные понемногу становились еще беспомощнее, но зато со все более крупными головами и, как важное следствие для архантропов, с очень вкусными мозгами... Поэтому-то достаточно быстро произошло формирование неоантропов. Ну а уж затем сформировавшиеся неоантропы воспользовались преимуществом своего огромного мозга и – за счет возникших интеллектуальных преимуществ – породили социальные отношения и расправились с архантропами. Экзотичность этой версии лишь подчеркивает, какие невероятные (и, признаюсь, мало чем обоснованные) гипотезы приходится выдвигать, какие логические трудности преодолевать, чтобы объяснить происхождение социального усложнением мозга.
Третья типичная версия приписывает биологическому неожиданные тенденции. Утверждается, что живые системы должны, кроме самосохранения, обладать самодвижением. По мнению П. В. Симонова, сохранение служит лишь фоном для реализации тенденций роста, развития, совершенствования живых систем93. Таким путем легко вывести социальное: есть специальная потребность, которая это социальное порождает. Но откуда берутся эти потребности роста? Симонов, по-видимому, считает, что они генетически заданы и исходно независимы от самосохранения. Правда, все равно не понятно, когда и каким образом врожденная биологическая потребность превращается в социальную – как, например, оценить, когда ребенок – уже социальное существо, а когда – еще нет? Поэтому чаще пытаются показать, что все эти потребности развития и роста вторичны и целиком сводимы к самосохранению. Так, Б. В. Якушин утверждает: эти потребности должны иметь в качестве биологической базы инстинкт самосохранения, иначе не ясны их биологические корни94. А Р. И. Кругликов поясняет: стремления к выживанию недостаточно для выживания. "Живая система, "настроенная" на то, чтобы выжить во что бы то ни стало, заведомо обречена на гибель"95. Но такая трактовка, по сути, представляет собой кажущееся решение и ничего нового к предшествующим версиям не добавляет.
Вес объяснения возникновения социального в эволюции живых существ вращаются в замкнутом круге. Очевидно, что живые существа существуют и эволюционируют по биологическим законам. Отсюда следует: социальное неизбежно порождается в результате действия биологических законов. Возникновение социального тогда – врожденная биологическая потребность человека. Но, еще раз спросим мы вместе с Л. И. Божович96: как же врожденная биологическая потребность может превратиться в социальную? Социальное – и это, в свою очередь, столь же очевидно – не тождественно биологическому. Но тогда получается, что социальное должно зарождаться и действовать не только по биологическим законам. Значит ли это, что хотя бы иногда оно должно действовать вопреки жизненно важным законам? Судя хотя бы по возрастающему числу самоубийств в ситуациях социального напряжения – да. Но все живые существа потому и существуют, что они живут по биологическим законам. Тогда, казалось бы, социальное вообще не должно возникнуть и существовать. Тем не менее оно существует. Как же вырваться из логического круга, кажущегося таким запутанным?
Б.Ф. Поршнев, на мой взгляд, был не совсем точен, когда утверждал, что социальное неоткуда вывести, кроме как из биологического. Наверное, все же и проще, и правильнее объяснять социальные процессы работой механизмов, порождающих сознание. Только вначале надо понять, что же именно делают эти механизмы. Может быть, тогда станет понятнее, с какой стати они порождают и социальное. Думается, что, минуя проблему сознания, объяснить возникновение социальных отношений в принципе невозможно.
Перейдем к обсуждению самой запутанной и самой величественной философской проблемы – гносеологической. Очевидная парадоксальность одновременно делает эту проблему и одной из самых изящных. Вот суть проблемы. Содержание сознания – это единственное, что нам известно и в чем мы можем быть уверены. Только благодаря этому содержанию мы знаем о существовании вещей. Но как мы можем узнать, каковы вещи на самом деле, если мы знаем о них только то, что известно нашему сознанию?
Гносеологическая проблема во всем своем величии была сформулирована философами Нового времени. В исполнении Дж. Локка эта проблема выглядит так: "Наше Познание реально лишь постольку, поскольку наши Идеи сообразны с действительностью Вещей. Но что будет здесь Критерием? Как же Ум, если он воспринимает лишь собственные Идеи, узнает об их соответствии самим Вещам?"97 Этот же "логический круг" отмечает И. Кант. Он пишет: "Мое знание, чтобы иметь значение истинного, должно соответствовать объекту. Но сравнивать объект с моим знанием я могу лишь благодаря тому, что объект познаю я. Следовательно, мое знание не достаточно для истинности. Ведь так как объект находится вне меня, а знание во мне, то я могу судить лишь о том, согласуется ли мое знание об объекте с моим же знанием об объекте"98.
И через столетия гносеологическая проблема продолжает звучать в разных аранжировках. Спрашивает Б. Рассел: "Можем ли мы что-либо знать о том, что такое мир на самом деле, в противовес тому, чем он нам представляется!"99. Э. В. Ильенков констатирует: "Невозможно сравнить то, что есть в сознании, с тем, чего в сознании нет"100. Парадоксальный У. Джеймс утверждает: "Вопрос: как объект может проникнуть в познающий субъект, или: как познающий субъект может постигнуть какой-нибудь объект, признан самой неразрешимой из философских головоломок". И добавляет: "Правда, признан не совсем искренне, ибо самые неисправимые "гносеологи" никогда всерьез не сомневаются в том, что познание все же как-то совершается"101.
Без решения этой проблемы никакая теория познавательных (психических) процессов не может рассчитывать на успех. А какая психологическая теория вообще может претендовать на истинность без понимания природы протекающих в психике процессов? Ужас в том, что мы не можем даже доказать, что воспринимаемые нами вещи существуют в действительности, а не являются исключительно плодом нашей фантазии, например, плодом работы нашего зрительного анализатора. И. Кант называл это скандалом для философии. Должны же мыдостоверно знать, что существует реальность, отличная от наших грез и сновидений? Впрочем, из того, что нельзя с помощью логики доказать существование вещей вне нашего сознания, не следует, что их не существует. Последнее мы ведь тоже не можем доказать.
Для меня все же гносеологическая проблема оборачивается, прежде всего, конкретными психологическими вопросами. Как удается соотнести образ с предметом, если последний дан субъекту только в виде образа? Рассмотрим простейший случай: человек слышит звуковой сигнал. Как он может проверить: слышимый им звук реально существует или ему только кажется, что он его слышит? По-видимому, он как-то должен сличить то, что он слышит, с тем, что есть на самом деле. Но в чем логика этого? Если человеку не известно, что есть на самом деле, то что с чем он должен сличать? А если ему каким-то неведомым образом заранее известно, что есть на самом деле (наивный реализм), то почему тогда ему может казаться, что сигнал есть, когда на самом деле его нет? Почему, в частности, количество ошибок в определении наличия сигнала возрастает при предъявлении звуковых сигналов в околопороговой зоне, хотя органы чувств на физиологическом уровне продолжают регистрировать приходящие сигналы столь же безошибочно, как и в надпороговой зоне?
Весьма своеобразный вариант этой же проблемы возникает для мнемических процессов. Представьте себе: вам надо вспомнить номер телефона вашего приятеля, а он никак не приходит на ум. Вы прилагаете усилия, перебираете какие-то варианты. И вдруг чувствуете: вот тот самый номер телефона, который вы так долго вспоминали! Чаще всего, хотя и не всегда, вы при этом не ошибаетесь. Но как вы можете почувствовать, что вспомнили правильно? Как, иначе говоря, человек способен испытывать субъективное чувство уверенности в правильности воспоминания, если до этого долго не мог вспомнить желаемое? Если он сличает воспоминание с предполагаемо правильным ответом, то сам этот ответ ему должен быть заранее известен, – тогда почему он так долго вспоминает? Если он не знает правильного ответа, то тогда на основании чего определяет, что правильно вспомнил? Когда поэт иногда часами ищет нужное слово для своего нового стихотворения, то как он узнает, что нашел именно то, что искал?
Не понятны простейшие когнитивные механизмы, позволяющие отвечать на подобные вопросы. Как, например, человек может определить, голоден ли он на самом деле или ему только кажется, что он голоден? В серии изящных экспериментов показано, что в реальности ответ на этот вопрос отнюдь не тривиален. Ведь на чувство голода и жажды можно повлиять сугубо психологическими методами (например, создав у испытуемых когнитивный диссонанс). Показано также, что полные люди в большей степени, чем худые, переживают чувство голода в зависимости не от сокращений желудка, а от внешних факторов (вкус пищи, ее внешний вид, время после приема пищи и т. д.)102. Вот типичный эксперимент, проведенный С. Шехтером. Испытуемые (тучные и нормальные) прибывали в лабораторию для измерения некоторых физиологических состояний в покое. К их пальцам подсоединяли электроды и давали инструкцию не шевелиться и думать о чем угодно. А что бы, мол, не было "наводки", у них изымали все металлическое, в частности, наручные часы. Время можно было определить только по настенным часам, которые могли идти с любой заданной экспериментатором скоростью. Исследователь возвращался ровно через полчаса. Но в одной группе часы показывали, что прошло 15 мин, а в другой – что прошел час. Экспериментатор объявлял перерыв, отсоединял электроды и предлагал испытуемым подкрепиться печеньем. Оказалось, что в условиях убыстренного хода часов тучные испытуемые съели в два раза больше печенья, чем в условиях замедленного. Нормальные испытуемые через якобы один час съедали даже меньше печенья, чем через якобы 15 мин, но они при этом говорили: "Скоро время обеда, не хочу портить аппетит". Как же в итоге все-таки оценить, когда чувство голода выражает непосредственное переживание физиологического состояния, а когда является логическим выводом о необходимости есть? Отметим: если сам человек не способен удостовериться в правильности ответов на подобные "опросы, то как кто-нибудь другой сможет этого сделать?
Еще более пугающий вопрос: как человек может убедиться в правильности знаний о самом себе? Наверное, он должен сравнить свое представление о себе с самим собой. Но человеку ведь известны только свои мысли о себе, а не он сам как таковой. С чем же сравнивать? Может быть, стоит опросить других людей и сравнить собственные мысли с их ответами? Но эта идея не распутывает головоломку. Бели я недостаточно хорошо знаю сам себя, то почему другие люди знают меня лучше? Если юноша не может разобраться, действительно ли он любит свою возлюбленную или только думает, что любит, то чем ему помогут окружающие? Разве кто-нибудь способен точнее, чем я сам, решить, о чем я думаю на самом деле, чего я хочу, что мне нравится или не нравится? И тем не менее люди способны как-то корректировать свое представление о себе. Как же им это удается? Как сознание, которое воспринимает лишь собственные идеи, узнает о соответствии этих идей вещам, в то время как вещи сами по себе явно не являются осознанными идеями?
Без решения гносеологической проблемы, полагаю я, построение психологической теории невозможно. Человек, несомненно, способен каким-то образом познавать окружающее и быть более-менее адекватным реальности. Правда, психологи и философы всегда подчеркивали: сознание субъективно, результат работы сознания зависит отнюдь не только от объективной ситуации. Психологи-практики иногда даже передергивали: для того чтобы быть психически здоровыми, говаривал А. Адлер, мы должны рассматривать наши убеждения как вымыслы, а гипотезы как фантазии103. Такая позиция, возможно, и полезна для конкретного психотерапевтического воздействия, но может слишком далеко увести. Более естественнонаучно ориентированные ученые (например, Ю. М. Забродин) высказываются осторожнее: в подавляющем большинстве случаев у людей нет точного знания реальной ситуации, а есть лишь иллюзия этого знания104. Но все же, все же... Разве не сознание дает нам знание о мире?
Изложу – разумеется, очень схематично – варианты поиска решения гносеологической проблемы, сложившиеся в философии. Впрочем, классики философии чаще спорили лишь о возможности и необходимости ее решения. И, честно признаюсь, сам этот их спор не всегда казался мне столь уж захватывающим.
Рассмотрим наиболее простой, а потому часто встречающийся вариант решения, получивший название наивного реализма. Этот вариант предполагает, что проблемы, собственно, и нет. Ход рассуждения примерно таков. Как бы ни был загадочен процесс познания, но в какой-то форме он задан человеку до всякого опыта. У человека должны быть какие-то врожденные механизмы переработки информации. Для того чтобы хоть что-то знать, человек должен уметь познавать, еще не зная, как он это умеет. Это очевидно. Известный исследователь в области зрительного восприятия В. А. Барабанщиков утверждает нечто подобное в такой форме: "Младенец появляется на свет, располагая определенными фиксированными механизмами, которые детерминируют особенности его визуально регулируемого поведения. Без наличия таких базовых механизмов обучение зрительной системы было бы просто невозможно"105. Теперь, чтобы снять обсуждаемую проблему, достаточно предположить, что врожденные механизмы познания изначально работают так, чтобы быть адекватны познаваемому. Последнее утверждение и соответствует позиции наивного реализма. Наивные реалисты призывают не усложнять жизнь излишними проблемами. Содержание сознания, уверяют они нас, непосредственно отражает реальность. Мы видим дерево, потому что дерево отражает свет, этот свет попадает на сетчатку глаз, что и вызывает соответствующие зрительные впечатления. Именно так рассуждает, например, С. Л. Рубинштейн: "То, что мы видим солнце таким, как мы его видим, есть объективный факт, закономерно обусловленный объективными размерами солнца и законами ра-Ооты зрительного анализатора"106. А вот еще более упрощенный ответ Б. Скиннера: "Внешний мир вообще не копируется... Мир, который мы знаем, – это просто мир вокруг нас"107. Ту же позицию можно выразить и более наукообразно. Вот как это делает прекрасный исследователь Н. И. Чуприкова: "Психика – это свойство высокоорганизованной материи отражать внешний мир, изменяясь в пространственно-временном, структурном, количественном и качественном отношении в соответствии (подчеркнуто мной. – В. А. – Вот оно, ключевое слово!) с пространственно-временными, структурными, количественными и качественными характеристиками отображаемого, и регулировать на этой основе поведение живых существ"108. И совершенно исключается из рассмотрения вопрос: как психика может узнать о соответствии своего отражении внешнему миру? В общем, такая позиция предполагает, по мнению К. Поппера, что человек – это сосуд, в который наливают знания (bucket theory of mind), что "мы получаем знания, просто открывая глаза и позволяя даруемым органами чувств или Господом Богом "данным" вливаться в мозг, поглощающий их"109.
Однако отражение внешнего мира не осуществляется путем таинственного появления этого мира в психике, оно происходит весьма опосредованно. А. Н. Костин справедливо обращает внимание на то, что с помощью дискретных нейрофизиологических процессов в психике могут отражаться непрерывные процессы110. Но, опираясь на рассматриваемую позицию, немыслимо даже обсуждать, каким является окружающий нас мир – непрерывным или дискретным. Если мы воспринимаем мир дискретным (или, наоборот, непрерывным), то как следует из этого признание того, что мир действительно дискретен (или непрерывен)? Величие познания состоит в том, что человек способен проверять знания, полученные его психикой и сознанием. А вся беда в том, что нет внятной идеи, позволяющей объяснить, как он умеет это делать.
Скажите, любезные сердцу наивные реалисты, откуда вам известно, что именно дерево (или солнце) вызывает ваши зрительные впечатления? Из ваших зрительных впечатлений? Но ведь проблема в том и состоит, что вначале надо доказать, что этим впечатлениям вообще можно доверять. Ведь в самих зрительных впечатлениях подобное доказательство не содержится. И кстати, зрительные впечатления от одного и того же дерева постоянно меняются – как же мы узнаем, что это одно и то же дерево? Человек способен заблуждаться. Так, иногда он видит иллюзии и миражи. Весла, опущенные в воду, выглядят сломанными, правда это ощущение изменится, стоит их снова поднять над водой. Гром мы слышим с некоторым запаздыванием после вспышки молнии, хотя на самом деле они одновременны. Солнце заходит за горизонт на восемь минут раньше, чем нам кажется (а нам так кажется, потому что свет от солнца еще продолжает идти даже после реального захода) и т. д.
Знания могут приобретаться автоматически, но из этого не следует, что они верны. Б. Рассел приводит позицию наивного реализма к прямому логическому противоречию. Он пишет: "Физики начали с наивного реализма, т. е. с веры в то, что внешние объекты являются в точности такими, какими мы их видим. На основе этого допущения они развили теорию, согласно которой материя представляет собой нечто совершенно непохожее на то, что мы воспринимаем. Таким образом, их заключение противоречит их предпосылке"111. Иначе говоря, законы физики мы узнаем благодаря наивному реализму, но эти же законы говорят нам, что наивный реализм ошибается. Отсюда следует: если наивный реализм истинен, то он ложен. В. Ф. Петренко даже делает весьма грозный для современных учебников психологии вывод: "Базовая метафора отражения... исчерпала свой эвристический потенциал и стала во многом тормозом развития"112.
И все же наивный реализм принимается в повседневной жизни подавляющим большинством людей (что само по себе, разумеется, не делает его верным – так, до Аристарха и Коперника не большинство, а все люди считали, что Земля недвижна). Человек, несомненно, способен каким-то образом познавать окружающее и быть более-менее адекватным реальности. И конечно же, признание этого совершенно неизбежно для ученого. Иначе он просто не мог бы оправдать свое занятие наукой, свое желание строить верные теории. Ему надо было бы признать, что он тратит свои усилия только для того, чтобы бессмысленным занятием разнообразить собственную жизнь. Примем, вслед за учеными, что адекватное познание действительности возможно. Но одновременно признаем и загадочность этого, ибо совершенно не ясно, как объяснить логическими средствами существующую и всеми признаваемую способность познания.
Одна из самых плодотворных, на мой взгляд, попыток разрешения гносеологической проблемы восходит к И. Канту. Кант говорил о двух основных стволах человеческого познания – чувственности и рассудке. Чувственные представления и рассудочные конструкции дают сознанию, утверждал он, представления совершенно разных типов. А поэтому именно из их соединения, синтеза (я бы сказал: в процессе сличения) может возникнуть знание. В середине XX в. неокантианец Н. Гартман так усовершенствовал эту идею: "Если бы наше познание опиралось на какой-нибудь один устой – как это мыслят чистый эмпиризм и чистый рационализм, которые строят все на чем-то одном: первый – только на свидетельствах чувств, второй – на одном чистом интеллекте, – то об устойчивом критерии (истинности. – В. А.) нельзя было бы думать. Но если познание состоит из обоих элементов, так что два самостоятельных устоя вместе несут на себе свод познания, то дело обстоит иначе. Ведь оба элемента познания отнесены к одному и тому же полю предметов: они дают содержательно разнородные свидетельства о предмете, имеют свои различные и существенно друг от друга независимые средства и пути, но познавательное образование строят лишь вместе"113.
Итак, вначале справедливо признается, что сличать между собой можно только субъективные представления. Далее допускается, что субъективные представления об одном и том же объекте могут быть получены разными, не зависимыми друг от друга способами. И только в случае совпадения этих представлений можно надеяться: обнаружено ю реально общее, что есть у этих представлений, а таким общим, вполне вероятно, будет как раз тот объект, который одновременно отображается двумя разными способами. Однако сами разные пути познания прописаны не слишком ясно. Это скорее намек на возможность решения, но не само решение.
Постпозитивистские методологи науки двигались в ту же сторону, когда заявили, что любое научное высказывание должно независимо проверяться. Они утверждали: нельзя подтвердить гипотезу данными, на основе которых она была создана. Желательно, чтобы при подтверждении гипотезы использовались хотя бы новые методы. А еще лучше, чтобы логические рассуждения и экспериментальные данные независимо подтверждали друг друга. Если теория, построенная индуктивным эмпирическим путем, совпадет с теорией, построенной независимо дедуктивным логическим путем, то есть шанс, что это совпадение не случайно и отражает закономерности реального мира. Однако и такая идея не полностью снимает все проблемы. Еще как-то можно себе представить, что логический и эмпирический способы научного познания, осуществляемые разными учеными, каким-то странным образом не зависят друг от друга (когда ученые не общаются между собой и ничего не знают ни о предшествующих поисках, ни о результатах друг друга). Но как разные пути познания могут оказаться полностью независимыми, если протекают в сознании одного человека? Ведь сознание, если оно выполняет какую-то функцию, будет обязательно влиять на оба сравниваемых результата, а значит, эти результаты зависимы друг от друга. Поэтому методологи и утверждают: никогда нельзя строго подтвердить или опровергнуть теорию, можно лишь выбрать из нескольких теорий наилучшую. Но и такой ответ не слишком радует. Все-таки выбор наилучшей теории из нескольких должен отличаться от выбора наилучшей галлюцинации.
Марксизм (а вслед за ним, отметим, и вся советская психология) объявил, что нашел иной выход из гносеологического тупика. Субъективные образы надо проверять на практике. Идея, безусловно, разумна. Практика осуществляется в реальном мире, а не в мире субъективных представлений. Поэтому если человек способен целенаправленно изменять окружающий мир и быть при этом успешным, то можно предполагать, что те его субъективные представления, в соответствии с которыми он практически действительно, соответствуют реальному миру – по крайней мере, с точностью, достаточной для решения практических задач.
К сожалению, этой идеи тоже недостаточно. Во-первых, встает проблема точности. Например, с точностью до производства табуреток Земля плоская, с точностью до изготовления глобусов Земля круглая, но оба эти высказывания, в свою очередь, заведомо неверны для проектирования космических полетов. Истина становится относительной. И нет критерия, позволяющего оценить, какая из относительных истин ближе к абсолютной. Нельзя же знать всю возможную практику, включая будущие практические достижения. Например, неверная (с сегодняшней точки зрения) теория Коперника в течение ста лет (до ее исправления с помощью законов Кеплера) менее соответствовала астрономическим наблюдениям, чем еще более неверная теория Птолемея. Но из-за этого не стоило сразу же отбрасывать гелиоцентрическую систему как ложную.
Во-вторых, с помощью практики нельзя оценить верность утверждений, никак непосредственно с этой самой практикой не связанных. Например, утверждений относительно давних исторических событий. Как, скажем, решить, почему Наполеон покинул свою армию в Египте? То ли он понял безнадежность положения армии, погибающей от чумы, и, по сути, дезертировал (как считают одни историки), то ли действовал, опираясь на принятое решение захватить власть во Франции (как считают другие). Не представляю, как можно в этом случае опереться на практику как на критерий истины и принять решение. А как по критерию практики оценить, какая из нескольких психологических теорий лучше? Для пробы сравните, скажем, теории 3. Фрейда и К. Юнга, или, еще того лучше, теории Ж. Пиаже и Б. Ф. Поршнева. А если истину вообще подменить практической пользой (как предлагает прагматизм), то такая позиция уже просто ведет к логическому абсурду114. Действительно, попробуйте оценить, что практически полезнее было бы для нас: считать, что Наполеон дезертировал? или что он заведомо решил взять власть? Вообще: истина – это то, что есть на самом деле, а не то, что практически полезно.
Но самое главное и решающее: ни практика, ни результат практической деятельности не даны сознанию непосредственно. А следовательно, сличение предполагаемого результата практической деятельности с реально достигнутым результатом невозможно. Сравнивать имевшиеся субъективные представления об ожидаемом результате можно только с субъективным образом достигнутого результата. Получаем в итоге: "Критерий практики... слишком слабое утешение вследствие, с одной стороны, ее несовершенства, а потому недостаточной определенности. Ведь между абсолютной истиной, как исчерпывающим знанием, и относительной, как знанием наличным, лежит бесконечность неизвестного, которая становится лишь предметом веры, но не более того. С другой стороны, вследствие направленности практики на субъективное видение и столь же субъективные цели и интересы, она не может быть критерием истины"115.
Ведь мы обычно воспринимаем лишь то, что ожидаем. Так, переживания человека, вызванные галлюцинацией, вполне могут подтверждаться в опыте: размеры галлюцинации увеличиваются, если смотреть на нее в бинокль; уменьшаются, если бинокль перевернуть; галлюцинация вообще может пропасть, если смотреть на нее сквозь непрозрачное стекло116. Д. Н. Узнадзе давал испытуемым определить на ощупь предмет и пришел к выводу: "Чувственное содержание не предопределено раз и навсегда раздражителем. ...Так, например, твердость металла один из испытуемых переживает как мягкость каучука до тех пор, пока убежден, что данный ему объект является каучуковым штампом"117. Методологи науки также признают: любой эксперимент можно совместить с любой гипотезой – правда, добавляют они, это может потребовать немало усилий118. Тем самым, на мой взгляд, и марксизм не решил проблему, он лишь ее переформулировал.
Значит, мы опять приплыли в тот же круг. Мы осознанно воспринимаем только наше представление об окружающем, а не окружающее. Р. Грегори напишет об этом так: "Мы видим то, что понимаем". Но еще раньше об этом скажет У. Джеймс: "Мы видим то, что предварительно осознаем"119. Субъективные представления опровергаются другими субъективными представлениями, а не опытом. Опыт не может заменить имеющиеся представления. Поэтому и теории опровергаются другими теориями, а не экспериментом. Нельзя же на место теории поставить результат опровергающего эту теорию эксперимента. Неудивительно, что в истории науки, как утверждают специалисты, нет ни одного факта, который бы однозначно подтвердил или столь же однозначно сразу же опроверг какую-либо теорию. Поэтому проверка теорий "на практике", обещаемая марксизмом, логически не осуществима. Тем не менее она все же как-то происходит. По крайней мере, новая теория обычно лучше соответствует известным экспериментальным данным, чем опровергнутая старая (хотя, конечно, не всегда).
В предложенной марксизмом идее чувствуется некая интуитивная правда. Субъективные образы отражения действительности и субъективные образы деятельности – не совсем одно и то же... Теперь надо только допустить, что практическая деятельность с предметом – это принципиально другой способ создания субъективных представлений, не зависимый от сенсорного отражения. Тогда гносеологическая проблема может быть разрешена. Нечто подобное, кстати, пытался выразить А. Бергсон: познание ("приобретение веры в закон причинности") нераздельно связано с согласованностью осязательных впечатлений (которые, по Бергсону, дают информацию о результате действий) с не зависимыми от них зрительными120.
Итак, приходится с сожалением констатировать, что рационально процесс познания объяснить не удается, хотя реально этот процесс с очевидностью происходит. Как разрешить эту головоломку? Часть философов, не удовлетворенная всем предшествующим поиском и душевно им измотанная, попыталась вообще объявить гносеологическую проблему или бессмысленной (позитивисты), или чисто лингвистической, вызванной, например, неправильным употреблением слов (аналитическая философия), или в ужасе признавала проблему принципиально неразрешимой (агностики). И разумеется, возникает множество иррациональных построений, сводящих загадочный процесс к не менее загадочным интуитивным постижениям.
Для поэта И.-В. Гете все уже пару столетий назад было ясно: человек – это рупор для самовыражения природы, а уж природа сама умеет правильно этим рупором пользоваться. Подобную позицию я бы назвал наивным иррационализмом: ничего не понятно, но зато и проблем нет. В этом же духе спустя века решает гносеологическую проблему Р. Тарнас: "Я убежден, что существует только один правдоподобный ответ на эту загадку: те смелые догадки и мифы, что порождает в своих поисках знания человеческий разум, исходят из источника куда более потаенного и глубокого, нежели источник только человеческий. Они исходят из родника самой природы, из вселенского бессознательного... отражают сокровенное родство человеческого разума с Космосом"121. А вот как рассуждает интуитивист Н. О. Лосский: "Сам действительный предмет внешнего мира, когда я обращаю на него свое внимание, присутствует самолично, в подлиннике, в моем сознании"122. Важно не то, как он там оказался, а важно, что он там оказался.
Можно иронически улыбаться над подобными иррациональными построениями, но есть ли что-нибудь лучшее? Может, ошибка в самой постановке проблемы? В ней вроде бы участвует триада конструктов: данное сознанию представление о реальных предметах, сами реальные предметы ("вещи сами по себе" – именно так Вл. Соловьев переводит знаменитое кантовское "Ding-an-sich", и на мой взгляд, этот перевод гораздо удачнее, чем загадочная "вещь в себе") а также результат их сопоставления друг с другом. Может, какой-то из этих конструктов лишний или, наоборот, чего-то важного не хватает?
Философы-идеалисты именно для решения гносеологической проблемы придумали свой знаменитый логический трюк, столь поражающий воображение: реальные предметы не существуют, существует только то, что дано в представлении. Эта идея снимает проблему, так как представления, по определению, уже можно сравнивать друг с другом. Более того, несмотря на всю свою контринтуитивность, такой взгляд логически безупречен, его никому не удалось опровергнуть. Но при этом, правда, из итоговой картины вообще исчез окружающий нас мир. Признаюсь, такая цена кажется чрезмерной. Подавляющее большинство идеалистов, впрочем, реальность все же сохраняют. Но при этом опираются на другие, не слишком обнадеживающие и, к тому же, никак не проверяемые утверждения. Дж. Беркли, например, сохраняет реальность с помощью весьма сильного допущения: мир существует, утверждает он, в виде представлений в сознании Бога. Легче от этого не становится.
Некоторые философы предложили иной подход к решению проблемы: лишним является процесс сопоставления. Не нужно сравнивать то, что представлено в сознании, с тем, что есть на самом деле. Достаточно предположить, заявили они (и за это предположение были отнесены в стан дуалистов), что как реальность, так и представление о ней, данное сознанию, существуют независимо друг от друга, но развиваются параллельно по одним и тем же законам. Врожденные механизмы познания заранее работают так, чтобы быть адекватны познаваемому. Представления, выработанные сознанием, соответствуют реальности просто потому, что – в силу предустановленной гармонии (скажет, например, Лейбниц) – они созданы по тем же законам, что и реальность. Этот подход получил название психофизического параллелизма. Б. Рассел справедливо называет эту теорию "очень странной". Ведь из нее следуют очевидно абсурдные следствия: между физическими и психическими явлениями нет и не может быть никакого взаимодействия. Психические явления, раз они параллельны физическим, должны соответствовать тем же законам, что и физические явления, т. е. законам физики, и, наоборот, физические явления должны соответствовать законам психологии. И т. д. и т. п.
Э. Гуссерль движется иным путем. "Если разорвать разум и сущее, – задается он вопросом, – то каким же образом познающий разум может определить, что есть сущее?"123 А поскольку ответа нет, то, следовательно, нельзя разрывать разум и сущее. Вот как эту позицию с ясностью, достойной пера самого Гегеля, воплотил Ж.-Ф. Лиотар: "Мы приходим к новому локусу психического, которое теперь уже не что-то внутреннее, но интенциональность, т. е. отношение между субъектом и ситуацией; и это нужно понимать не так, что эта связь объединяет две отделимые друг от друга противоположности, но, напротив, что эго, как и ситуация, поддается определению только в этом взаимоотношении и через это взаимоотношение"124. У разума и сущего есть нечто общее – сущность предметов, которую, собственно, и надо постигать. Мы лишь должны отбросить все свои исходные предположения о конкретных предметах и стараться сосредоточиться на сущности, которая только и придает смысл объектам и событиям. Эта весьма туманная идея, хотя и исходящая из вполне рационального посыла, вдохновила не одно поколение феноменологов, экзистенциалистов, гуманистических психологов, породив в силу неопределенности ключевой процедуры – процедуры постижения сущности – множество различных интерпретаций. А отсюда уже легко было прийти к постмодернистской идее множественности истин (что эквивалентно признанию отсутствия истины вообще). И все же, думается, честнее с ужасом вздохнуть и снова развести руками. Человек, конечно же, способен познавать, но как ему это удается – не известно. А ведь если процесс познания не поддается рациональному объяснению, то чего стоят все разъяснительные конструкции при описании познавательных процессов в учебниках психологии? Не может же быть, чтобы все, что мы в этом мире осознаем, было заведомо ни с чем не соотносимым галлюционированием. Если мы хотим описывать нормальную (не патологическую) работу сознания, мы должны найти логическую возможность того, что осознаваемые представления верны, а если они неверны, то могли бы хотя бы частично исправляться. Впрочем, вряд ли хоть один психолог в этом может всерьез усомниться. Зачем в противном случае говорить о точности восприятии, адекватных действиях, правильно решенных задачах и истинных мотивах? Но, значит, психологи, как и положено ученым, признают, что конкретный человек хотя бы иногда решает гносеологическую проблему. Как, однако, это объяснить, как вырваться из порочного круга рассуждений? Как построить психологию познания?
Без решения гносеологической проблемы психология как наука обречена влачить жалкое существование. Психика и познание теснейшим образом взаимосвязаны. Когнитивизм вообще исходит из того, что логика процесса познания поможет объяснить все, что мы знаем о сознании и поведении человека, что "термины "психология познания" и "психология" являются, в сущности, синонимами"125. Беда лишь в том, что логика этого процесса ускользает от понимания.
Отсутствие рационального объяснения не означает его принципиальной невозможности. Да, до сих пор удовлетворительного объяснения не нашли. Однако философы решали эту задачу умозрительно, не очень ясно понимая, что такое сознание и что именно оно делает в процессе познания. Может быть, именно психологи, знающие о реальной деятельности сознания более чем кто-нибудь, смогут, наконец, распутать коварную головоломку. Так давайте же искать, не пугаясь того, что умнейшие мужи человечества до сих пор с этой задачей не справились.
Рассмотрим еще одну философскую проблему, которая тесно связана с двумя другими, хотя изначально стоит как бы в стороне, – проблему свободы выбора, или этическую проблему. Проблема названа этической потому, что обсуждалась, прежде всего, в связи с нравственными проблемами. Утверждается, что добрые дела должны осуществляться человеком без всяких побудительных причин, безо всякого намерения извлечь какую-нибудь выгоду в этом мире или на том свете. А иначе, мол, это не добрые, а корыстные дела. Но поведения без побудительных причин не бывает, следовательно, и добрых дел не может быть. Впрочем, и злых тоже, ибо если поведение предопределено причинами, то в чем можно обвинять преступников, если они были вынуждены действовать преступно? Итак, или человек способен действовать без побудительных причин, или он не ответственен за свои поступки.
В итоге приходим к чепухе. Если человек свободен в своем выборе, то это значит, что он принимает решения без каких-либо оснований, не подчиняясь никаким законам, т. е. его поведение находится "вне каузальных отношений бытия" (Н. А. Бердяев), не может быть прогнозируемо, не подлежит научному описанию и пр. и пр. Самое несущественное следствие из этого абсурдного предположения – принципиальный отказ от возможности существования такой науки, как психология. "Мир, в котором не царит детерминизм, закрыт для ученых"126. А с другой стороны, если признать, что все решения человека причинно обусловлены (не столь важно чем – генетикой, средой, воспитанием, ситуацией или чем иным), то отсюда следует, что человек не несет ответственности ни за какие свои поступки. И тогда, скажем, быть человеку героем, святым, преступником или обывателем – вопрос предрешенный, не зависящий от самого человека. Ни одна из этих крайностей не может быть принята отдельно, а обе вместе ведут к противоречию: человек, конечно же, свободен в своем выборе, но его поведение и выбор, конечно же, причинно обусловлены.
Поставим этот же вопрос в познавательной плоскости. Для того чтобы познавать мир и действовать в нем, человек должен обладать какими-то программами переработки информации и регуляции поведения. Отсюда дилемма: или познавательная деятельность и поведение человека однозначно определены поступающей из внешнего мира информацией и программами ее переработки (заданными генетически, воспитанием, средой), или каждый человек свободно вносит в процесс познания и в собственное поведение что-то свое, ни от чего не зависимое. Если человек строго детерминированно принимает как правильные, так и ошибочные решения, то, значит, он как личность равно не причастен ни к собственным ошибкам, ни к своим гениальным открытиям. Если он все же волен принимать решения по своему усмотрению, то что это значит? Ведь если решение ни от чего не зависит, то и нет никаких оснований его принять. Как здесь вырваться из порочного круга и избавиться от противоречия?
Беспричинность не подлежит рациональному осмыслению, подчеркивают философы-иррационалисты. А значит, поведение свободного человека никогда не может быть понято. Человек легче поддается эмоциям, чем рациональным аргументам, и только интуиция (необъяснимая мистическая способность проникать в суть вещей) помогает ему каким-то образом быть адекватным реальности. Такая позиция возможна, но рано или поздно она приводит или к пустословию, или к полному отказу от каких-либо рассуждений, ибо, как справедливо отмечал Л. Витгенштейн, мистическое не высказываемо, а "о чем невозможно говорить, о том следует молчать"127. Философы-рационалисты, наоборот, склонны принимать позицию детерминизма, но вот далее начинаются варианты, ни один из которых не решает проблемы. Материалисты подчеркивают могущество природы (материи) в детерминации поведения. Идеалисты – внешний, не зависящий от природы фактор воздействия (будь то Бог или данный до всякого опыта нравственный закон). Но это различие не принципиально с точки зрения взгляда на саму проблему. Не вдаваясь в детали: и в том и в другом случае свобода исчезает. Существуют характерные для детерминизма попытки переформулировать проблему. Одна из версий (от Б. Спинозы до П. В. Симонова) гласит: поведение человека строго детерминировано, и ему лишь кажется, что он свободен. И. М. Сеченов прямо называл ощущение свободы выбора самообманом. Поэтому, утверждали сторонники этой версии, проблема не в описании свободы выбора (ибо такового, по их мнению, нет), а в описании причин кажимости свободы выбора. Впрочем, я не вижу, как таким способом снимается сама исходная проблема.
Рассмотрим, например, логику рассуждений П. В. Симонова. Существуют, заявляет он, детерминированные неосознаваемые процессы. Человек способен осознать только результат этих процессов. Но для самого сознания этот результат, естественно, кажется неожиданным, ничем не детерминированным. Что же это за несознаваемые процессы? Симонов, в частности, объявляет фундаментальным законом природы запрет на возможность осознания решающих (он говорит: критических) моментов творческой деятельности. В эти моменты, по его мнению, и возникает иллюзия свободы творческого воображения128. Но этот аргумент не решает проблему. Человек не осознает, например, и процессы, протекающие в нервной системе, в лучшем случае осознает только их результат. (В некотором смысле наличие "фундаментального запрета" на осознание нервных импульсов даже более очевидно.) Однако отнюдь не все, что дано сознанию, воспринимается как акт свободного выбора. Почему же тогда не всякое осознаваемое кажется проявлением свободы?
Можно заменить дилемму "свобода или детерминизм" на бессмысленную конъюнкцию: и свобода, и детерминизм (столь, кстати, любимую психологами-гуманистами). В исполнении Р. Декарта это выглядит так: все предопределено божественным провидением, иначе говоря, необходимо. Но так же ясно, что людям присуща свобода. Мы не можем логически согласовать эти два противоречащих утверждения друг с другом? Что ж! Нашим конечным умом не понять бесконечное могущество Бога129. Лейбниц даже обиделся на Декарта: разве допустимо такое рассуждение? Оно же противоречит законам философских споров!130
Однако и в дальнейшем философы пытались уйти от проблемы. Даже И. Кант конструирует противоречивую модель детерминации: на поведение человека, заявляет он, одновременно влияют и законы природы, и нравственный закон. Правда, не ясно, как человек принимает решение при различном сочетании этих двух факторов, т. е. когда и в какой степени ему надо подчиняться природной необходимости, а в какой – руководствоваться нравственным законом. Канта это смущает, но он не предлагает решения. Он принимает этот логический тупик как необходимую данность. У разума, говорит он, есть естественные границы – он не может узнать того, чего узнать нельзя, о чем не может получить никакой информации. В частности, реальность свободы нельзя показать ни в каком возможном чувственном опыте: ведь всякий опыт подчиняется законам природы, а свобода, по определению, этим законам не подчиняется. Следовательно, разум может только мыслить о свободе, но не может в опыте с ней столкнуться. А "там, где прекращается определение по законам природы, нет места также и объяснению, и не остается ничего, кроме защиты, т. е. Устранения возражений тех, кто утверждает, будто глубже вник в сущность вещей, и потому дерзко объявляет свободу невозможной"131.
Несмотря на полное отсутствие ясности, именно двухфакторная детерминация более всего понравилась психологам и весьма часто встречается в психологических построениях. Они нередко различают два вида детерминации: внешнюю, когда причины, детерминирующие поведение человека, связаны с объективными условиями; и внутреннюю, обусловленную причинами, находящимися внутри личного "Я", Однако все эти построения весьма темны и загадочны. Вот как поясняет это разделение В. Франкл. Допустим, вы забрались на очень высокую гору и у вас возникло чувство подавленности и тревоги. Эти чувства могут быть вызваны внешней причиной – недостатком кислорода. Но эти же чувства могут возникнуть благодаря субъективному основанию – в случае сомнения в своем снаряжении или тренированности132. Понятно? Мне – нет. Сами эти субъективные основания чем-нибудь детерминированы? Если да, то о какой свободе идет речь? Если же они ничем не детерминированы, то откуда возникают? Франкл разъясняет так, что и вопросы далее задавать бессмысленно. Он утверждает: правильная формула – свобода, несмотря на детерминизм. И пишет: "Человек – это компьютер (т. е. строго детерминированная система. – В. А.), но одновременно он нечто бесконечно большее, чем компьютер".
Некоторые из моделей психологов очень странные. Так, К. Роджерс рассматривал человека как систему, детерминированную, прежде всего, одним комбинированным фактором: сочетанием наличных потребностей и внешних обстоятельств. Но в работу этой системы зачем-то вмешивается второй фактор – сознание – и вносит искажения в ее функционирование133. Поразительная конструкция! По Роджерсу, получается, что человек – это испорченный компьютер. Ну а сломанный компьютер, мол, может иногда действовать недетерминированно. Однако зачем нужно такое сознание, которое лишь вносит искажения и создает лишние трудности? Загадочно. Конечно, сломанный компьютер может обладать некоторой непредсказуемостью для внешнего наблюдателя, но с чего вдруг он обладает свободой? Нет ответа.
Задумаемся: как человек может принимать решение при совместном действии обоих факторов? Одни причины требуют действия А, другие – действия Б. Как должен повести себя человек? Должен существовать какой-то алгоритм принятия решения: например, сравни силу действия причин и подчиняйся "более сильной", а в случае невозможности выбрать более сильную причину, используй случайный выбор. Но если такой или подобный ему алгоритм принятия решения существует, то, значит, никакой свободы нет. А если предположить обратное и считать, что алгоритма принятия решения не существует, то каким образом вообще может быть принято решение? Ни двухфакторные концепции, ни даже утверждение о много многозначной детерминации (такая тоже упоминается в психологической литературе) проблему свободы выбора не решают, если не указано, как же, собственно, осуществляется выбор, А если указывается, то это означает, что свободы выбора нет.
Психологи-практики справедливо отмечают, что психотерапевтические концепции, психиатрические методы и субъективные представления о реальности действенны, если люди в них верят, т. е. принимают за реальность и на этом основании выстраивают свое поведение. Подобные утверждения даже носят разные титулы: теорема Томаса, принцип Мейхенбаума и пр. Потому многие психологи видят причину свободного выбора в самом выбирающем человеке. Это замечательно, но тем не менее не решает проблему. Ведь при таком взгляде все сводится уже к онтологической проблеме: является ли само субъективное следствием каких-либо внешних причин или нет? И снова та же страшная дилемма: если субъективное на чем-нибудь основывается, то свободы выбора нет, а если ни на чем не основывается, то нет и причин для его возникновения.
Е. П. Ильин пытается найти выход в следующей идее: "Конечный этап мотивационного процесса – выбор объекта и способа удовлетворения потребности – оказывается далеко отстоящим от первичной причины и является как бы независимым от нее (что дает ощущение "свободы выбора"), но в то же время детерминированным, хотя уже совсем другими причинами"134. Он ссылается при этом на мое описание инодетерминации, когда какой-нибудь процесс зачинается по одним причинам, а продолжается по другим. Например, мы в новогоднюю ночь открываем бутылку шампанского по одним причинам, а пена из бутылки выливается совсем по другим. Но и представление об инодетерминации – лишь предчувствие решения, но не само решение. Замысел Ильина не снимает проблему. Какой бы длинной цепочка причин ни была, на каждом ее шагу никакой свободы не может быть.
А. Г. Асмолов справедливо связывает свободу выбора с активностью личности. Ведь если личность не обладает свободой, то как она может проявить свою активность? Асмолов, отчасти вторя У. Джеймсу и функционалистам, заявляет: в случае конфликта равносильных мотивов человек неизбежно сталкивается с проблемой выбора в неопределенной ситуации. "Неопределенность исхода, риск, субъективное ощущение принадлежности совершаемого только самому себе, оценка принятого решения в свете тех мотивов, ради которых живешь, непредсказуемость для самого себя – нот неотъемлемые черты свободного личностного выбора"135. Асмолов утверждает: в ситуации неопределенности происходит ориентировка личности в сложной системе ее мотивов и личностных смыслов. Иначе говоря, основания для выбора есть, но они настолько сложны, что предпочтительную альтернативу выбрать трудно. В итоге Асмолов, приблизившись к проблеме, тут же ее обходит. Как бы ни были сложны основания, они либо есть (и тогда нет свободы), либо их нет (тогда есть свобода, но нет принимаемых решений). Я тоже думаю, что активность личности проявляется, прежде всего, в ситуации неопределенности. Это значит – при принятии решения в ситуации выбора одной из субъективно равновероятных альтернатив. Но вот здесь и остается проблема. Как в этом последнем случае принимается решение? Если альтернативы субъективно равносильны, то нет оснований для принятия решения (выбор по алфавиту, по жребию или по любому иному алгоритму не есть свободный выбор, соответственно, человек не может нести за него ответственность), а если они не равносильны, то нет свободы выбора – заведомо выбирается наиболее предпочтительная альтернатива.
В. А. Петровский пытается обосновать активность личности иным способом. Он понимает, что если психическая деятельность детерминируется прошлым опытом (в том числе и генетическим), то личность не может обладать активностью. Активность системы, утверждает Петровский, – это детерминированность со стороны настоящего, а не прошлого или будущего. "Преодоление парадигмы детерминации Прошлым составило целую эпоху становления психологической мысли в мире". И продолжает: "Причинность "здесь и теперь", принцип актуальной детерминации содержит в себе, как мы считаем, возможность объяснить полагания таких целей, которые не предваряются ранее принятыми целями". Но вот вопрос: что же детерминирует появление целей, которые ничем не предваряются, т. е., иначе говоря, ничем не детерминируются? Ответ на него, разумеется, решил бы этическую проблему. В. А. Петровский находит остроумную идею, хотя, как представляется, и не реализует ее до конца. Далее я даю слово самому автору, ибо пересказать его идею своими словами очень непросто: "Такая детерминанта есть. Мы полагаем, что это – переживание человеком возможности действия (состояние Я могу). Возможности как таковые – еще не цели, но лишь условия их достижения и постановки. Но, будучи переживаемыми, возможности непосредственно превращаются в движение мысли или поведения, – воплощаются в активности". Не совсем понятно? Автор поясняет еще раз: "Актуальный детерминизм в форме переживания собственных возможностей действия как причины целеполагания объясняет выдвижение индивидом действительно новой цели, не выводимой из уже принятых целевых ориентации (будь то мотив, предшествующая цель, задача или фиксированная установка)".
Но как же так получается, что переживание собственных возможностей приводит к появлению цели, ни из каких других целевых ориентации не выводимой? Не думаю, что приведенный текст поддается однозначной интерпретации. Однако смею предположить, что Петровский действительно нашел оригинальный подход к решению этической проблемы, хотя и недостаточно ясно его выразил. Поскольку он связывает решение проблемы свободы выбора с сознанием (осознанным переживанием), то для подтверждения собственной мысли вполне правомерно использует феноменологический аргумент: "Обратимся к опыту самоанализа и рассмотрим переживание Я могу. Мы увидим, что чувство возможного неудержимо в своих превращениях; оно как бы заряжено действием, производит его "из себя". И в той же мере переживание беспомощности (Я не могу!) как бы поглощает активность, делает человека беспомощным"136. В. А. Петровский, однако, не объясняет, почему переживание "Я могу" ведет к спонтанному действию. Более того, он не совсем точен. Человек может многое сделать в каждый момент времени: встать, поднять правую или левую руку, улыбнуться, позвонить по телефону и пр. И при этом, вопреки Петровскому, не испытывать никакой неудержимости в осуществлении этих действий. Необходимость действия связана скорее не непосредственно с переживанием "Я могу", а с неопределенностью, с сомнением: Могу ли я? Ведь для того, чтобы дать ответ на этот вопрос и разрешить возникшее сомнение, нужно обязательно попробовать совершить действие. Впрочем, и такая формулировка еще не решает проблемы свободы, поскольку предварительно требуется объяснить, как же происходит выбор того, в чем именно следует сомневаться.
Все испробованные в течение несколько тысячелетий версии решения этической проблемы перечислить невозможно. Но ни одна из этих версий так и не смогла непротиворечиво объяснить, каким образом человек, поведение которого причинно обусловлено, может совершать свободные, т. е. ничем не детерминированные, поступки. Ошеломленный этой загадкой великий лингвист Н. Хомский честно признается: в исследовании проблемы свободы воли нет прогресса, нет даже плохих идей. А поэтому, приходит он к выводу, ее не надо и решать137. Справедливо: зачем рассуждать сложно, когда можно просто не рассуждать? Еще большее число исследователей делают вид, что проблемы вообще не существует. Так, по мнению Б. Ф. Ломова, "противоречие между сознательными, волевыми (произвольными) действиями и объективными законами действительности, в которой этот человек живет (независимыми от его сознания и воли)" только кажется неразрешимым: мол, стоит лишь раскрыть детерминанты сознательных, волевых действий – и нет никакой проблемы138. Действительно, если решить проблему, то ее, разумеется, не будет. Но что дает такое признание? Ломов лишь уверяет, что логическое решение этической головоломки существует, что свобода и детерминизм должны соединиться в непротиворечивом единстве. Но даже не обсуждает, каким должен быть логический трюк, дающий детерминированное объяснение свободному волеизъявлению человека.
Засим – остановлюсь. Очень хочется от спекулятивных рассуждений перейти к прозрачным и проверяемым психологическим исследованиям. Загадочность вечных, "проклятых" проблем сознания во многом связана с тем, что само представление о сознании всегда было расплывчатым. И не наступит для психологии утешения, пока не удастся разобраться с тем, что же она понимает под сознанием. Уверен, что без какого-либо внятного разрешения обсуждаемых парадоксов никогда она не отряхнет золу со своего платья и не станет принцессой, которую общество – в восхищении от ее красоты и подлинного величия – признает наконец настоящей Царицей наук.