 ОГЛАВЛЕHИЕ
ОГЛАВЛЕHИЕ
 >>>
>>>
Ученый, который не знает, что он ищет, никогда не поймет, что он нашел.
Клод Бернар
Количество головоломок в психологии столь велико, что даже перечислить их невозможно. Но если мы не понимаем, что такое сознание – самое очевидное из всех психических явлений, всегда присутствующее даже в самом процессе нашего понимания, то разве можно понять другие, менее очевидные явления? В итоге, за что ни возьмись, все выглядит загадочным. Ниже мы рассмотрим некоторые из головоломок – без особого выбора, лишь для примера, чтобы только посмаковать возникающие трудности. В конце концов, как пишут А. Эйнштейн и Л. Инфельд, "формирование проблемы часто более существенно, чем ее решение"1. Самое удивительное, что многие, казалось бы, бросающиеся в глаза загадки и, что особенно странно, вопиющие нелепости в их объяснении зачастую даже не замечались исследователями, обычно спешившими или как можно быстрее окунуться в бесконечную эмпирическую трясину и выдавать на-гора ни о чем не говорящие цифры, или, наоборот, погрузиться в тонкую паутину самоускользающих рассуждений, лишь бы избежать ужаса полного непонимания. Неудивительно, что при этом очевидные логические парадоксы часто вообще не обсуждались. И уж соответственно, мало кто пытался их разрешать.
В 1956 г. блистательный Дж. Миллер опубликовал статью о магическом числе семь, отметив удивительную роль этого числа в разнообразных процессах переработки информации2. Впрочем, о загадочной семерке было известно давно, о ней уже писали В. Вундт и другие пионеры экспериментальной психологии. Само это число называлось разными авторами по-разному: объемом внимания, объемом сознания, объемом непосредственного восприятия и т. д. Когда мы воспринимаем отдельные элементы изолированно, замечает Вундт, мы не можем ясно различать и сохранять в памяти более семи элементов. И эта граница, по Вундту, справедлива для слуха, зрения и осязания. Не случайно, полагает Вундт, буквы алфавита для слепых, созданного Л. Брайлем, содержат всего шесть точек: если бы было использовано больше точек, слепые не могли бы быстро и уверенно различать буквы этого алфавита. Хотя, добавляет Вундт, в поле сознания может поступать гораздо большее число элементов, если эти элементы поступают не изолированно.
Г. Эббингауз экспериментально обнаруживает, что он сам может с первого предъявления безошибочно запомнить не более семи цифр, слогов или названий предметов. (Дж. Миллер обобщил множество данных: у разных испытуемых в зависимости от сложности элементов это число колеблется от 5 до 9.) Память как бы обладает ограниченной емкостью, позволяющей вмещать не весь предъявляемый для запоминания материал, а лишь малую его толику. Найденный предельный объем запоминаемого получил название объема кратковременной памяти (КП). Гипотеза о предельном значении объема КП является обобщением многовековых наблюдений и накопленных с конца XIX в. экспериментальных данных. "Эти эксперименты, – пишет Р. Солсо, – проводились на протяжении всего этого (двадцатого. – В. А.) века с применением самых разных мелких предметов, включая бобы, бессмысленные слоги, числа, слова и буквы, но результат был неизменен"3. Все они показывают, что после однократного (кратковременного) предъявления ряда знаков испытуемый способен воспроизводить семь или около того знаков.
Почему же наше сознание столь немощно? Было высказано естественное предположение: ограничение на объем КП вызвано тем, что так устроен мозг. Подобные "теории" хороши, прежде всего, тем, что одно неизвестное объясняют другим неизвестным. Е.А. Климов остроумно замечает: психолог считает дело объяснения сделанным, когда ссылается на "то, что он сам уже мало понимает, полагая, что зато понимают другие, а именно физиологи"4. Эти теории замечательны также тем, что нечто подобное можно сказать о чем угодно. Как пишет Р. М. Фрумкина, "обращение к данным физиологии, т. е. к чему-то материальному, регистрируемому, порождает иллюзию объяснения"5. Когда, например, в концентрации внимания видят "очаг оптимального возбуждения", то разве этим хоть что-нибудь объясняется? Правда, таким способом можно ответить на любой вопрос, не боясь никаких опровержений. Почему, например, объем внимания равен семи знакам? А потому, что таково оптимальное возбуждение очага. Разумеется, этот ответ ничем не обосновывается, а опирается на те же самые измерения объема внимания, которые призван объяснить. Однако если в силлогизме верны и посылка, и следствие, то этого еще недостаточно, чтобы считать, будто следствие вытекает из посылки. Так ошибаются дети, когда, например, объясняют, что Луна не падает на Землю, потому что ночью темно.
Замечательный исследователь А. Н. Лебедев выводит число семь из природы волновых колебаний электрической активности мозга. Однако как установить, что именно волновая природа определяет процессы, происходящие в сознании? В лучшем случае можно установить какие-либо связи физиологических параметров с психологическими, но нет никакой понятной гипотезы о причинах, приводящих к возникновению этих связей. Работа мозга описывается в химических, физических и физиологических терминах, а влияние этой работы на осознаваемое содержание всегда является лишь более-менее правдоподобной интерпретацией. Почему в ограничениях, наложенных на сознание, следует видеть ограничения, наложенные на мозг? Ведь мозг – и это хорошо экспериментально изучено – воспринимает и перерабатывает существенно больше информации, чем мы осознаем. Неудивительно, что физиологическое обоснование ограниченности объема КП сразу сталкивается и с логическими, и с эмпирическими затруднениями.
Начнем с логических трудностей. Во-первых, когда измеряют объем КП в знаках, то о каких знаках, собственно, идет речь? В среднем, по Миллеру, человек запоминает примерно семь десятичных и девять двоичных цифр, а также пять односложных слов. Но, например, достаточно научиться перекодировать двоичные цифры в восьмеричные – и запоминание шести восьмеричных цифр даст возможность воспроизвести 18 двоичных. Объем памяти в пять односложных слов может быть с таким же правом назван объемом памяти в 15 и более фонем, поскольку каждое слово образовано не менее чем тремя фонемами. А если слова образуют осмысленный текст, то объем запоминания вообще резко возрастает. В итоге чрезвычайно трудно операционально сформулировать, в каких единицах выражается структурное ограничение на объем кратковременной памяти. Дж. Миллер потому и говорит о чанках (chunks, кусках) информации, не давая им никакого определения. Как же разбиение информации на смысловые куски могут решать волны электроактивности?
Можно, конечно, не замечать этой проблемы, но тогда возникают сплошные недоразумения. О. В. Лаврова, например, уверяет: "Десять колебаний в секунду альфа-ритма задают предел объему кратковременной памяти (семь плюс минус два бита информации)"6. Если бы это высказывание было верным, то еще как-то его можно было бы понять: десять колебаний в секунду выделяют не семь смысловых кусков, что заведомо нелепо, а сугубо формально рассчитываемое количество информации. Но последнее неверно: объемные ограничения, наложенные на КП в битах, полностью противоречат любой эмпирике и заведомо ошибочны. Так, в семи словах содержится во много раз больше бит информации, чем в семи буквах. Если бы люди обладали предельным объемом памяти в девять бит информации, то никто бы вообще не смог запомнить ни одного слова.
Во-вторых, даже если мы как-либо все-таки смогли бы ясно определить, о каких знаках идет речь, то мы все равно не измерим реальный предел возможностей запоминания. Дело в том, что испытуемый по ходу воспроизведения предъявленных ему знаков должен помнить не только те знаки, которые ему были предъявлены, но и (хотя бы частично) те, которые он уже до этого воспроизвел. В противном случае он бы все время воспроизводил первый знак, каждый раз забывая, что до этого он его уже воспроизвел. Это уже значит, что объем воспроизведения всегда меньше объема запоминания. Более того, измеряя в эксперименте у испытуемого объем памяти на знаки, предъявленные для запоминания, необходимо предполагать, что испытуемый помнит в этот же краткий момент времени еще многое другое: в частности, он должен помнить, что должен нечто воспроизводить, а не, скажем, плакать или объяснять экспериментатору, как надо удить рыбу; он должен помнить, что это именно он должен нечто воспроизводить, а не кто-нибудь другой; он должен помнить, что ему следует воспроизводить предъявленные знаки, а не детали костюма экспериментатора; он должен помнить язык, на котором он разговаривает с экспериментатором, и т. д. до бесконечности...7 В чем тогда состоит измеренное предельное значение объема памяти?
Из сказанного видно: гипотеза об ограниченности измеряемых в эксперименте объемов кратковременной памяти логически весьма сомнительна, что, однако, напрочь игнорируется ее приверженцами. Но этого мало. Опытные данные никак не соответствуют следствиям, которые из этой гипотезы можно вывести. Правда, гипотезы отвергаются только при наличии других гипотез, а не под лавиной опровергающих фактов. Стоит помнить: спасти гипотезу от опровержения можно всегда, если, конечно, очень хочется. Поэтому гипотеза о структурной ограниченности как единственная гипотеза о природе ограничений упорно защищается от всех опровержений. Несоответствие опыта и предсказаний побуждает исследователей к коррекции гипотезы, к изменениям формулировок, к новым дополнительным гипотезам, хотя в отсутствии другого объяснения не приводит к отказу от нее. Но все-таки тотальное несоответствие теории ее следствиям – любые проверяемые в эксперименте выводы из гипотезы о структурной ограниченности памяти постоянно опровергаются – должно настораживать ученых и предупреждать их о сомнительности (методологической дефектности) выдвинутой гипотезы.
Первое возможное следствие: не существует людей, которые могут запомнить более девяти знаков. Это следствие неверно. Такие люди существуют. Например, среди моих испытуемых, отнюдь не обладавших феноменальной памятью, встречались люди, способные с первого раза запомнить и 10, и 12 знаков. В связи с этим гипотезу обычно корректируют за счет ослабленных требований к точности: объем кратковременной памяти составляет в среднем около семи знаков, но иногда и в два раза больше. Или формулируют условие, что существует особая группа испытуемых, не подпадающая под общее правило. Скажем, они могут быть отнесены к категории людей с исключительным объемом кратковременной памяти. Поэтому данные, полученные у испытуемых такой особой группы, вполне можно рассматривать как нехарактерные. Еще фантастичнее для объяснения с помощью гипотезы структурной ограниченности выглядит группа людей с феноменальной памятью, не имеющих вообще никаких регистрируемых ограничений на объем запоминаемого материала. У них не все в порядке с мозгом или только с альфа-ритмом? Аналогично, при встрече с испытуемыми, которые не могут запомнить ни одного знака и даже уверяют, что им вообще ничего не предъявлялось, гипотеза будет сохранена: эти испытуемые, скажет ученый, страдают амнезией, а потому эти данные никакого отношения к объему кратковременной памяти не имеют.
Второе возможное следствие: один и тот же испытуемый всегда воспроизводит фиксированный объем разных знаков. Это следствие легко опровергается в экспериментах. Измеренный одним и тем же способом у одного и того же испытуемого объем КП всегда сильно зависит от запоминаемого материала. Более того, объемы КП различаются у одного и того же испытуемого в зависимости от способа предъявления информации. Одни лучше запоминают на слух, другие – при зрительном предъявлении. А при совместном предъявлении и зрительной, и слуховой информации объем воспроизведения возрастает у всех. Так, например, объем КП испытуемых О. Ф. Потемкиной – шесть-семь знаков (букв и цифр) как при зрительном предъявлении, так и при предъявлении только на слух. Этот объем вырос при предъявлении одновременно на слух и на зрение одной и той же информации до семи-восьми знаков, а при предъявлении различающейся информации даже до десяти – одиннадцати букв и цифр8. Разумеется, и такие данные не опровергают гипотезу. Достаточно ввести новые допущения: существует не один блок кратковременной памяти, а ненесколько: зрительный, слуховой и т. д. Мол, различные соотношения объемов слуховой и зрительной КП объясняются существованием структурных индивидуальных различий в воспроизведении знаков разной модальности. А при бимодальном предъявлении знаков задействован не один объем КП, а два. (Правда, не совсем ясно, почему общий объем не увеличивается вдвое, но и это можно легко объяснить...)
Третье возможное следствие: один и тот же испытуемый воспроизводит фиксированный объем более-менее одинаковых знаков. Это тоже неверно. Объем КП вообще всегда несколько варьирует у одного и того же испытуемого даже при заучивании однотипных знаков. Ко для опровержения этого следствия страшнее другой результат. Оказывается, число правильно воспроизведенных слов из списка в 10,20 или 40 слов последовательно увеличивается, в итоге заметно превосходя якобы предельные возможности запоминания. Но даже от такой экспериментальной критики можно легко защититься. Достаточно безо всякого обоснования сказать, например, что при запоминании длинных списков самые первые знаки в списке уже переходят из кратковременной памяти в долговременную!9 Однако такое утверждение – не более чем игра терминами. Ведь гипотеза о существовании объема КП эмпирически выведена из невозможности для испытуемого хранить в сознании более семи – девяти однократно предъявленных знаков. Методически однократность предъявления зачастую обеспечивается кратковременным предъявлением стимульной информации. Гипотеза о кратковременном ее хранении – очередное ни на чем не основанное допущение. Неужели одно слово мы всегда храним только очень короткое время, а вот десять уже сможем хранить долго? Необходимо специальное объяснение, почему при одноразовом предъявлении информации короткого ряда удается запомнить меньше слов, чем при предъявлении более длинных рядов.
Четвертое возможное следствие: разные способы проверки объема запоминания дают примерно одинаковые результаты. Это неверно. Различные способы проверки всегда дают разные результаты, и многие из них показывают, что человек способен запомнить существенно больше чем семь знаков. Предъявим испытуемому двузначные числа от 12 до 24 включительно, но предъявим их в случайном порядке, одно число опустив (метод отсутствующего члена Г. Бушке). После небольшой тренировки испытуемый обычно способен безошибочно назвать, какое число не было предъявлено. Но для этого он, по-видимому, должен помнить все 12 предъявленных двузначных чисел. Какой же у него объем КП на числа? Также хорошо известно, что человек способен опознать больше знаков, чем воспроизвести. Неужели частота альфа – ритма или иная характеристика работы мозга влияет только на воспроизведение, но не на опознание?
В одном из исследований испытуемому однократно предъявляли 11 тысяч слайдов с задачей их последующего опознания. Результат – испытуемые дают свыше 90% правильных ответов. Б. М. Величковский комментирует эти данные так: "Не удалось установить пределов зрительной долговременной памяти"10. Почему долговременной? Сам Величковский предъявляет испытуемым 940 цветных слайдов с видами новостроек в различных городах. Время предъявления – 1 и 4 с. При тестировании даже спустя пять недель "успешность опознания достоверно превышала нулевое значение"11. Таким образом, испытуемому однократно и на короткое время (1с!) предъявляются слайды с достаточно сложным изображением, испытуемый сохраняет их в памяти в большом количестве, но исследователи считают, что они изучают не кратковременную, а долговременную память, поскольку, мол, хранится эта информация долго. Но ведь в модели, предполагаемой Величковским, информация должна была вначале попасть в КП. И каком объеме?
Пятое возможное следствие: семь знаков (точнее, семь знаков плюс или минус два) является характеристикой именно кратковременной памяти, а не каких-либо иных процессов. И это следствие противоречит опыту. Прежде всего, заметим, что само существование кратковременной памяти как особого блока в системе переработки информации именно опытными данными было поставлено под сомнение. Хотя разработка теории кратковременной памяти в конце 50-х и начале 60-х гг. XX в. – одно из самых ярких событий в становлении когнитивной психологии, тем не менее сегодня в учебниках по когнитивной психологии появляются разделы под названием "Возвышение и падение теории КП", где нам сообщается, что, по-видимому, никакой кратковременной памяти вообще не существует12. Но если нет КП как таковой, то что означает объем КП?
Но самое главное – во всех процессах переработки информации фиксируются сходные константы. Так, время реакции, как и время опознания, возрастает с увеличением числа альтернатив до тех пор, пока число этих альтернатив не возрастет до 6-10. В других экспериментах обнаружилось, что если предъявлять на экране беспорядочно составленные из точек изображения на время 200 мс, то испытуемые не способны без ошибок определять число точек, если это число больше семи. Лингвисты подвергли анализу звуки человеческой речи и выяснили, что существует не более 8-10 отличительных признаков, позволяющих различать фонемы. И т. д. Итак, во всех случаях, когда удается установить некую верхнюю границу возможностей сознания по переработке информации, эта граница лежит в пределах от пяти до десяти знаков со средним значением около семи. Следовательно, гипотеза об ограниченном объеме кратковременной памяти, казалось бы, должна была быть заменена на другую: существует универсальная психологическая константа, предопределенная логикой работы сознания по переработке информации. Это понимал уже В. Вундт.
Он писал: "Шесть простых впечатлений представляют собой границу объема внимания. Так как эта величина одинакова для слуховых и для зрительных впечатлений, данных как последовательно, так и одновременно, то можно заключить, что она означает независимую от специальной области чувств психическую постоянную"13.
Тем не менее даже блистательный Дж. Миллер, как никто другой привлекший внимание к этой константе, уходит от ее серьезного обсуждения. Вот его текст: "Как же обстоит дело с магическим числом 7? Что можно сказать о 7 чудесах света, о 7 морях, о 7 смертных грехах, о 7 дочерях Атланта – Плеядах, о 7 возрастах человека, 7 уровнях ада, 7 основных цветах, 7 тонах музыкальной шкалы или о 7 днях недели? Что можно сказать о семизначной оценочной шкале, о 7 категориях абсолютной оценки, о 7 объектах в объеме внимания и о 7 единицах в объеме непосредственной памяти?.. Вероятно, за всеми этими семерками скрывается нечто очень важное и глубокое, призывающее нас открыть его тайну. Но я подозреваю, что это только злое пифагорейское совпадение"14. Вот так. Если вы видите за этими цифрами нечто большее, чем случайное совпадение, то вы – поклонник числовой мистики. И, чтобы было ближе к Пифагору, Миллер свалил в одну кучу и семь чудес света, и дочерей Атланта, и объем внимания.
Таким образом, существует замечательная константа, которая обнаруживается в океане исследований, характеризует некий объем актуально представленных в сознании знаков, но ее природа неизвестна. Более того, не удается даже логически внятно описать, в каких единицах эта константа может быть измерена. Единственное, что очевидно: она не может быть непосредственно определена принципами работы мозга. Эта константа явно характеризует работу сознания. Но, поскольку мы не знаем, что сознание, собственно, делает, то нет ни одной вразумительной идеи, объясняющей ее природу.
Всем хорошо известно: для безошибочного воспроизведения большого по объему текста (набора чисел, слогов, слов, предложений и пр.) необходимо заучивание, т. е. запоминаемый текст должен многократно предъявляться, а после каждого предъявления должна осуществляться попытка его вспомнить. Этот процесс всем хорошо знаком со школьной скамьи, где именно таким образом каждый из нас заучивал стихи или таблицу умножения. Но за обыденностью этого явления мало кто отмечал логическую странность этой операции.
Пусть испытуемый заучивает ряд из N знаков. Допустим также, что после /-го предъявления он правильно воспроизводит только р1 из них – назовем их р-знаками. Знаки, которые он оказался не способным воспроизвести, будем обозначать как q-знаки. Соответственно
N = pi + qi
Если в памяти испытуемого из заучиваемого ряда содержатся только воспроизведенные p-знаки, то при i + 1-м предъявления он должен воспринимать q-знаки, до этого уже i раз предъявленные ему, как субъективно совершенно новые для него. Но это же, разумеется, не так! Когда человек заучивает ряд, он мгновенно отреагирует, если этот ряд изменится, даже если изменятся только до этого не воспроизведенные им знаки. В противном случае, собственно, никакого заучивания как последовательности связанных между собой актов вообще не могло бы существовать! Значит, на каждом шагу заучивания человек обязательно должен помнить больше, чем может вспомнить. Так возникает море головоломок, которые любая теория памяти обязана объяснить. Почему человек не может вспомнить то, что и так хранит в памяти? Чем при этом ему помогают повторные предъявления? Каким образом человек узнает знаки, которые тем не менее не может воспроизвести? С чего вдруг в процессе заучивания человек может начать ухудшать свои результаты?
Все серьезные результаты исследований в области заучивания – один другого страннее. Задумаемся: если человек запоминает с первого предъявления 6-7 знаков, то сколько предъявлений ему нужно, чтобы запомнить 12 таких знаков? Казалось бы, из общих соображений, достаточно двух-трех предъявлений: мол, в первый раз запомнит шесть знаков, во второй раз – еще шесть и разве что потребуется еще одно предъявление на всякий случай. Ответ совершенно неверен! Еще Г. Эббингауз в опытах над собой показал, что требуется во много раз больше – 14-16 предъявлений. Закон Эббингауза гласит: число предъявлений, необходимых для заучивания ряда, растет гораздо быстрее, чем объем этого ряда. Оценим загадочность этого закона по достоинству.
Начнем с того, что р-знаки имеют явно выраженную тенденцию вновь воспроизводиться при следующих предъявлениях. Допустим, испытуемый должен запомнить ряд из 12 слогов, и, скажем, после первого предъявления он правильно воспроизвел шесть слогов. Что же он воспроизведет после второго предъявления? Как правило, пять-шесть тех же слогов, которые он только что воспроизвел и в лучшем случае, один-два новых слога (а может быть, еще и наделает ошибок). После следующего повторения он воспроизведет шесть-семь слогов, как правило, ранее уже воспроизведенных. И значит, снова практически не вспомнит почти ничего нового (хотя будет упорно повторять сделанные ошибки). Вот что поразительно: если шесть впервые предъявленных слога испытуемый запоминает с первого предъявления, то для воспроизведения шести оставшихся слогов (q-знаков) ему требуется почти 15 предъявлений! Отсюда следует: не воспроизведенные ранее знаки имеют выраженную тенденцию вновь не воспроизводиться при следующих предъявлениях, т. е. q-знаки – это такие элементы, которые испытуемый хранит в памяти для того, чтобы упорно их не осознавать!
Этот вывод был многократно подтвержден в моих исследованиях: испытуемому предъявлялись каждый раз новые последовательности знаков, но если в очередную последовательность включались q-знаки, то они воспроизводились существенно хуже, чем ранее не предъявлявшиеся знаки. Более того, оказалось, что q-знаки с трудом воспроизводятся, только если их повторно предъявлять. Если же их более уже не предъявлять, то при воспроизведении следующего же ряда знаков они чаще случайного попадают в ответ испытуемого в качестве ошибки. Зачем же испытуемый упорно хранит в памяти то, что или столь же упорно не воспроизводит, либо воспроизводит не вовремя?
При всем при этом испытуемый обычно еще способен оценить степень уверенности в правильности своего ответа. Очередная головоломка: как ему удается знать, какой из его ответов был правильным? И почему он все-таки иногда ошибается в этой оценке? Как вообще возникают мнемические ошибки? Эта же проблема повергает в изумление А. Ю. Агафонова: "Как содержанием воспоминания становится то, что не хранилось в памяти?"16
Ни одна теория заучивания не только толком не ответила на все эти вопросы, но обычно их даже не ставила.
Сохранение информации (или, как говорят, запечатление ее в памяти) – процесс физиологический. Человек не умеет сознательно что-то впечатывать в свою память. Сохранение – обязательный компонент всякой деятельности, столь же неустранимый, как и любой другой (Цитологический процесс: дыхание, тремор рук, автоматическая работа сенсорных систем и пр. Сохранение, иными словами, происходит автоматически. Физиологи открыли и блестяще описал и многие механизмы запечатления в нервной системе. Но только никто из них ничего не знает о том, как с этим автоматически запомненным материалом работает сознание. Обычно они даже не обращают внимания на то, что слово "память" – омоним. Память как автоматический отпечаток в нервном субстрате (т. е. память физиологическая) – совершенно иной процесс в сравнении с памятью, дарованной сознанию (психологическая память). Память как психологический процесс, разумеется, не может существовать, если нет физиологических отпечатков (следов), но она работает с этими отпечатками по своим законам, а не просто считывает информацию с носителя, как это делает, скажем, компьютер. Л. Джорди справедливо критикует любые версии теории отпечатком за их абсолютную невероятность: если бы воспоминание представляло собой только активизацию следа (и совершенно не паж по, где этот след образуется – в нейронах, синапсах или РНК), тогда само это воспоминание осознавалось бы как настоящее. Но ведь оно с очевидностью переживается как относящееся к прошлому17. Даже при принудительном вызове спонтанных воспоминаний (путем электростимуляции мозга или применения ЛСД) люди чувствуют, что они как бы находятся в двух состояниях: одно воспринимает реальность данного момента, во втором переживается опыт прошлого чуть ли не во всей первоначальной полноте18.
Работа психологической памяти более похожа на работу археолога, старающегося восстановить прошедшее по сохранившимся разрозненным обрывкам и совершающего на этом пути как удивительные открытия, так и не менее показательные ошибки. Аналогичную метафору использует Ж. Пиаже: "Память работает по тому же принципу, что и историк, когда он дедуктивно реконструирует прошлое по неполным историческим свидетельствам"19. Об этом же говорит Ф. Джонсон – Лэрд: "Возможно, что воспроизведение текста по памяти в большой мере является активной реконструкцией"20. Для социальных психологов, никогда, по счастью, не интересовавшихся процессами следообразования и не упоминающих о них, это утверждение настолько банально и настолько хорошо экспериментально подтверждено, что входит почти во все учебники. Вот, например, пишет Э. Аронсон: "Человеческая память по своей природе является прежде всего (ре)кон-струирующей... Мы не записываем буквальную трансляцию прошлых событий, подобно магнитофону или видеомагнитофону (словечком "мы" Аронсон, по сути, противопоставляет нашу психологическую память памяти физиологической. – В. А.), а вместо этого воссоздаем многие наши воспоминания из кусочков и частей, которые можем вспомнить, а также из ожиданий того, что должно было быть"21. Ф. Д. Горбов, впрочем, считает, что реконструкция начинается еще раньше – в процессе формирования записи в памяти: "Воспоминание, – пишет он, – это всплывание когда-то образовавшейся внутренней модели на арене сознания"22. Господа физиологи и аристотелианцы, как процесс реконструкции может быть описан в терминах отпечатков?
Заучивание – это, прежде всего, процесс психологический, когнитивный. Запоминаемый материал анализируется, в нем выделяются редкие и неожиданные элементы, сами элементы группируются по смыслу, человек применяет различные мнемотехники, например, строит разнообразные ассоциации. Все эти (и многие другие) когнитивные операции возможны только в случае, если запоминаемый материал уже хранится в физиологической памяти, иначе не с чем эти операции осуществлять. Но тогда – генеральная головоломка для любой теории заучивания – в чем смысл заучивания? Что именно делает сознание в процессе заучивания? Поразительно, но все теории делают вид, будто не замечают, что сознание имеет наглость – конечно, с существующих точек зрения, – влиять на этот процесс. А ведь теоретики часто говорят о преимуществе произвольного, т. е. сознательного, запоминания перед непроизвольным – но что именно делает сознание со всем своим произволом для запоминания? Нет внятного ответа. В огромном количестве работ (особенно это было характерно для сойотской психологии) подчеркивается значение деятельности в процессах запоминания и воспроизведения. Однако роль сознания, организующего эту деятельность, почему-то даже в этих работах толком не обсуждается.
Для объяснения необходимости в заучивании информации используются сплошь мифологические построения. Зачастую все объясняется существованием сугубо гипотетических ненаблюдаемых физиологических процессов, якобы с неизбежностью ведущих к забыванию. Так, например, вводится представление о само исчезающем следе памяти. Тем самым постулируется существование специального физиологического механизма, предназначенного исключительно для уничтожения записей в памяти. Это предположение нарушает принятый в естественных науках принцип рациональности, в соответствии с которым природа никогда не создает монстров, предназначенных исключительно для того, чтобы ухудшить положение дел. Самое поразительное, что утверждение о само исчезающем следе постулируется одновременно с признанием того, что в (физиологической) памяти хранится вся поступающая информация, да еще с отметкой о времени ее поступления!23 В итоге, чтобы согласовать сделанное абсолютно невероятное предположение с фактами, с очевидностью ему противоречащими, приходится разрабатывать несколько вариантов этой идеи.
Вариант первый – теория дискретного угасания. Утверждается, что след от запоминаемого материала всегда остается в памяти, но ненадолго. Через весьма небольшое время он полностью исчезает (след в этом варианте подчиняется закону "все или ничего", т. е. или он есть, или его нет). Так возникают ничем не обоснованные гипотезы типа хранения информации в само исчезающей реверберации (циркуляции) импульсной активности по замкнутым нейронным цепям. И эти гипотезы сохраняются, продолжают излагаться в учебниках, несмотря на то, что "на основании фактов участие реверберационных процессов в механизмах памяти многими авторами полностью отрицается. Экспериментальные данные в пользу такого механизма памяти пока (?! курсив мой. – В. А.) отсутствуют"24. Предполагается, что циркуляция импульсной активности в ответ на стимуляцию снижается во времени, а затем полностью исчезает. Предполагается также, что следы в памяти тоже со временем затухают и исчезают. Отсюда делается вывод: (гипотетические) следы кратковременно хранятся с помощью (гипотетической же) циркуляции. Логика этого вывода такова: раз предполагается, что и следы, и циркуляция исчезают, то, значит, они характеризуют один и тот же процесс. Вывод логически опасный: из того, что "за окном идет дождь и рота солдат", не следует, что дождь и рота – это одно и то же. Гипотезы, подобные гипотезе о влиянии исчезающей реверберации на исчезновение следа, потому и создаются, что удовлетворяют потребности в придании смысла исходно нелепому предположению. В компьютерных технологиях подобные механизмы конструируют разве только поклонники вирусов.
Далее утверждается, что в результате многократных предъявлений одних и тех же знаков след хранится дольше. Почему? А потому, мол, что он становится прочнее. Этого представления об упрочнении якобы уже достаточно чтобы теорию можно было счесть достойной. К сожалению, эта замечательная теория – даже в таком своем жалобном виде – умудряется противоречить фактам. Например, иногда информация с одного предъявления хранится в памяти неограниченное время, а иногда исчезает почти мгновенно. По прошествии времени какая-то часть прочно заученной информации сохраняется, но какая-то все же забывается. Как сохранить гипотезу? Для объяснения всего этого теоретики были вынуждены ввести дополнительное допущение: та информация, которая воспроизводится, всегда упрочивается путем внутренних повторений, даже если эти повторения никак не наблюдаются и сам человек о них ничего не знает (!). Р. Клацки пишет об этой версии так: "Повторение освежает хранящуюся в кратковременной памяти информацию, чтобы предотвратить ее забывание, и переводит информацию о повторяемых элементах в долговременную память, повышая тем самым прочность долговременных следов"25. Красиво, абсолютно не проверяемо, но самое главное – ничего не объясняет.
Гипотеза о внутреннем повторении информации для ее сохранения логически подразумевает, что какая-то информация повторяется, а какая-то нет. В противном случае никакого забывания бы вообще не было. В каждый момент человек получает огромное количество разнообразной информации и зачастую не знает, какая информация ему в дальнейшем понадобится. Значит, должны существовать какие-то когнитивные механизмы, обеспечивающие выявление именно той информации, которую следует повторять. Но, конечно же, в рамках обсуждаемой гипотезы эти механизмы не только не прописаны, но даже не обсуждаются. Стоит представить себе сложность необходимых когнитивных процессов, как становится ясно, что гипотеза не относится к числу логически проработанных. Но этого мало. Критики этой версии теории о непрочности следа легко находят опровергающие эмпирические примеры. Они ссылаются, например, на случаи феноменальной памяти, а также на известные случаи внезапного воспоминания событий, когда вспомнивший их человек до этого вроде бы не имел о них ни малейшего представления.
Второй вариант гипотезы упрочения следов (теория непрерывного упрочения) выглядит примерно так. След от любой информации очень слаб, аморфен и к тому же сам по себе угасает. Повторение укрепляет след, делает его более твердым, включает во всю систему хранения ("консолидирует") и тем самым защищает от якобы неизбежного угасания. Такой взгляд связывают с целой группой феноменов: с явлением сбережения, когда человек вроде бы ничего не помнит о ранее заученном ряде знаков, но, оказывается, для повторного заучивания ему требуется меньше повторений; с ситуацией, когда человек не может вспомнить какое-то слово, хотя оно "вертится на кончике языка"; или с упоминавшимся выше фактом, что опознание ранее предъявленных знаков всегда более успешно, чем их воспроизведение, – это тоже означает, что человек помнит несколько больше, чем может вспомнить, а значит, что-то хранится в памяти в каком-то туманном виде. И все же теория непрерывного упрочения не лишена всех существенных недостатков предшествующей теории, но добавляет еще неясное представление об аморфном следе. Что, собственно, стоит за всем этим туманом, что именно хранится – не известно. Почему одни следы четки и определенны, а другие аморфны – никому не ясно. Как непрерывно угасающий след способен долгое время сохранять дискретные элементы (буквы, слова, звуки и пр.) – загадочно. Как принимается решение о том, какую именно часть следа и в каком виде сохранить, – неведомо.
Третий вариант объяснения гласит: фиксация следа в памяти происходит мгновенно и навсегда. Ни дискретного, ни непрерывного угасания не происходит. А. Н. Леонтьев, заявлял, что однажды созданные следы вообще не могут исчезать: "Все дело в том, что меняется возможность воспроизведения, а след существует независимо. Раз он образовался, то он существует. Это необратимый процесс – следообразование. Припоминание – вот где проблема стоит"26. В этом варианте объяснения заучивание необходимо лишь для формирования программы воспроизведения этого следа. (Если выразить эту идею в компьютерных терминах, то речь идет о том, что файл с поступившей информацией всегда сохраняется автоматически, а вот имя файла – или, что то же самое, программа поиска этого файла – требует специального "упрочения".) Такой вариант объяснения согласуется с некоторыми приведенными выше фактами, ибо для согласования с ними и был придуман. Но с логической точки зрения он вызывает еще более глубокие сомнения. Зачем вообще надо забывать программу воспроизведения следа? Почему одни программы воспроизведения запоминаются сразу и прочно, а другие – нет?
Если программа поиска/воспроизведения постепенно формируется (непрерывное упрочение), то что это значит? Ведь если, например, при предъявлении ряда для запоминания сформирована только какая-то часть программы поиска этого ряда в памяти, то ни один когнитивный механизм этот самый ряд уже никогда не сможет найти. Следовательно, и при последующем предъявлении он не сможет сформировать оставшуюся часть программы, поскольку не знает, где искать сохраненную информацию. Ему остается только снова сохранить информацию и создать новую программу поиска. В чем тогда проявляется заучивание, последовательно обеспечивающее все более качественное воспроизведение? Как принимается решение о том, какие именно программы воспроизведения надо упрочивать? Но и это еще отнюдь не все неразрешимые проблемы для рассматриваемой версии.
Что понимается под воспроизведением? Разработаны различные методы проверки сохранения информации в памяти. Приведу лишь малую толику из них: метод последовательных воспроизведений (многократное предъявление в постоянном темпе определенного материала и после каждого предъявления воспроизведение в памяти удержанных элементов); метод узнавания (элементы материала, подлежащие заучиванию, располагаются в ином порядке среди других сходных элементов; задача испытуемого – узнать те элементы, которые были ранее предъявлены); метод сбережения – о нем уже только что поминалось; метод реконструкции (предъявленные элементы располагаются в другом порядке, а испытуемый должен восстановить первоначальный); метод отсутствующего члена (испытуемому предъявляются все элементы, кроме одного, а задача испытуемого – назвать тот элемент ряда, который не предъявлен); метод маркера (испытуемому после заучивания предъявляется либо элемент ряда, а он должен назвать предшествующий или последующий элементы; либо называется позиция элемента в заучиваемом ряду, а он должен назвать сам этот элемент) и т. д. Все эти методы дают разные оценки эффективности "удержания заученного в памяти". Как это может быть?! Для каждого метода разрабатывается своя программа воспроизведения? Но это же нелепо!
Наконец, уровень воспроизведения, какими бы методами он ни измерялся, различен на разных стадиях заучивания. В начале заучивания воспроизведение и неточно, и неполно. Трудно представить, какой должна быть программа воспроизведения, чтобы нечто заученное все же воспроизводилось, но воспроизводилось с ошибками и пропусками. Наконец, заученный материал со временем начинает частично забываться. Как и почему должна модифицироваться программа воспроизведения, чтобы этакое произошло? Оказывается также, что испытуемый лучше воспроизводит заученный материал, если находится в том же физиологическом состоянии (например, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения), что и в момент заучивания27. Как состояние испытуемого может учитываться программой поиска? Думается, сказанного достаточно, чтобы почувствовать весьма серьезное колебание перед тем, как выбрать и этот вариант гипотезы "упрочения следа".
Неудивительно, что существует группа теорий, имеющих более когнитивный вид. Первые варианты появились сто лет назад благодаря классическому исследованию Г. Мюллера и А. Пильцекера. В их работе выявилось, что запоминание одного ряда мешает запоминанию другого28. Сами Мюллер и Пильцекер дали своим результатам интерпретацию, весьма напоминающую те, которые только что обсуждались: активность нервной системы, вызванная заучиванием, продолжается небольшое время (реверберирует) после окончания процесса заучивания, но постепенно угасает. Именно в это время происходит консолидация (упрочение) только что возникших ассоциаций заучиваемого материала с той информацией, которая уже хранится в памяти. Этим они объясняли явления реминисценции – когда наблюдается улучшение воспроизведения без повторного предъявления. Но в эту невнятность они внесли существенную новацию. Человек не способен помнить информацию долгое время потому, что нервная система всегда активна, а любая другая активность, существующая в процессе консолидации, мешает этому процессу и приводит к забыванию.
Позднее стали говорить проще: два мнемических процесса, вызванных двумя разными заданиями, накладываются друг на друга, в результате чего возникает интерференция, т. е. взаимное угашение и торможение процессов. Мнемическая интерференция ярче всего проявляется в ошибках воспроизведения. Любой человек сталкивался с ситуацией, когда он вспоминал нечто иное, чем собирался вспомнить, – вот это, говорят, и есть следствие наложения одного воспоминания на другое, т. е. интерференция. Итак, предполагается, что какие-то процессы накладываются друг на друга. Но зачем? Что это за процесс, который ничего, кроме снижения эффективности деятельности, не дает?
Давайте разберемся, какой когнитивный механизм может обеспечить интерференцию. Чаще всего описание интерференции выглядит так, как будто несколько информационных потоков конкурируют друг с другом за захват ограниченного пространства или ограниченных ресурсов. (Эта нелепая и ничем не обоснованная точка зрения типична для объяснения любых – не только мнемических – интерференционных эффектов.) Допустим, рассуждают П. Линдсей и Д. Норман, определенный блок в структуре переработки информации способен вместить в себя только некоторое фиксированное число единиц информации. Тогда поступление новой единицы должно вытеснить предшествующую из данного блока. Но это ведь и есть интерференция! Правда, добавляют авторы, эта модель слишком проста, чтобы дать четкое представление о процессе29. К сожалению, дело здесь не в простоте. Такая модель вообще не имеет никакого отношения к интерференции.
Рассмотрим два варианта реализации этой идеи, предлагаемые разными авторами. Первый вариант (дискретное вытеснение) предполагает, что подлежащий сохранению элемент полностью стирается при поступлении нового элемента. Второй (непрерывное ослабление) – что новая единица не полностью вытесняет старую, а лишь "ослабляет" ее, уменьшая вероятность использования этой единицы в дальнейшей переработке информации. Рассмотрим вариант дискретного вытеснения. Предполагается, что система хранения удерживает в памяти не более n элементов. Дело сейчас не в том, что само это предположение ни на чем не основано, противоречит наблюдаемым явлениям и само по себе логически абсурдно: наша задача – показать невозможность вывода из подобного допущения феномена мнемической интерференции. Пусть в систему хранения поступил еще один (n + 1-й) элемент. Для замещения старого элемента новым необходимо либо принять решение о том, какой именно старый элемент следует удалить из памяти (и тогда, кстати, система хранения должна обрабатывать и тем самым хранить уже не n, а по меньшей мере n + 1 элементов), либо действовать по какому-либо заранее заданному правилу: удалять самый ранний (или поздний) элемент предшествующего ряда (так, например, устроена стековая память в калькуляторе), удалять наугад и т. д. Во всех случаях удаленный элемент никогда не будет появляться в последующих воспроизведениях. Но это как раз означает строго противоположное тому, что хотели объяснить теоретики: далее исчезнувший элемент уже ни с чем никогда не будет интерферировать!
Вариант непрерывного ослабления не подлежит прямому опровержению просто потому, что он внятно не прописан. Вот как, например, его излагает Р. Кладки: каждый след в памяти обладает характеристикой четкости. В момент, когда конкретный элемент поступает на хранение, его след обладает предельной четкостью. Поступление новых элементов снижает четкость ранее хранимых элементов и в конце концов может привести к тому, что хранимый элемент уже никогда не сможет быть восстановлен и воспроизведен. Ну и, разумеется, добавляется допущение, что повторение сохраняет четкость следа30. В таком изложении теоретическая конструкция просто с помощью иных слов утверждает: повторение приводит кзаучиванию. Гипотетическое представление о четкости следа не привносит ничего нового. Ключевое утверждение, что именно поступление новых элементов уменьшает четкость следа, не может быть, как признает сама Кладки, экспериментально доказано.
Как только вся эта конструкция начинает соотноситься с эмпирикой, таконатутже трещит по всем швам. В частности, Клац-ки вводит еще одно положение: степень утраты четкости зависит от сходства новых элементов с первоначальными. Это соответствует хорошо известному факту, что путаница (т. е. интерференция) между заучиваемыми рядами тем больше, чем более сходны эти ряды. Поразительно, что, делая подобные утверждения, Клацки и другие теоретики даже не замечают возникающей проблемы. Сходство может быть по форме, по смыслу, по ассоциациям и т. д. Как известно еще из работ Дж. Стерлинга, на величину интерференции влияет даже акустическое сходство зрительно предъявленных букв. Вопрос: след сам устанавливает сходство поступающих элементов с самим собой и ослабляет свою четкость или существует специальный когнитивный механизм, принимающий решение о сходстве и управляющий четкостью следа? Первое предположение невероятно. Не может след, не имея специальных когнитивных механизмов, распознающих сходство, снизить собственную четкость в результате, например, сходства с другим элементом по смыслу. Но второе предположение выглядит нелепо. Действительно, подумайте: зачем природе создавать сложный когнитивный механизм, единственной понимаемой задачей которого является снижение четкости следа?
Когда первоначальная интерференционная теория пришла в противоречие с фактами, тут же стали рождаться новые идеи интерференции. Нет никакого наложения следов друг на друга, признались некоторые теоретики. Но интерференция все равно возникает. Она, оказывается, мешает на выходе, т. е. интерферируют не сами по себе следы, а то ли управляющие команды путаются между собой и не могут решить, что именно надо воспроизводить, то ли сам процесс воспроизведения на что-то накладывается. Не буду сейчас разбираться во всех этих разновидностях интерференционной концепции. Они слишком интерферируют друг с другом, чтобы заслуживать самостоятельного внимания в столь кратком обзоре.
Теоретики долго и бесплодно спорили, является ли забывание следствием угасания следов или следствием интерференции (соответственно, является ли заучивание процессом упрочения следа или процессом борьбы с мешающим влиянием поступающей информации). Спор был тем интереснее, что обе стороны признавались в невозможности провести критический эксперимент. Ведь нельзя создать ситуацию, когда человек не воспринимает никакой информации, т. е. когда заведомо отсутствует интерференция, и посмотреть, произойдет ли в это время угасание следа, равно как нельзя предъявлять информацию, остановив время, чтобы точно утверждать, что решающий фактор забывания на стороне интерференции. Поскольку экспериментальные данные соответствовали то одной группе теорий, то другой, а в совокупности не соответствовали ни одной из них, постольку все чаще стали раздаваться голоса, что истина лежит где-то посредине31.
Новейшие "теории" воплотили эти ожидания, сконструировав просто очаровательных монстриков сразу из двух заведомо шатких конструкций. Мнемический след, например, говорят они, характеризуется двумя свойствами: силой, которая подвержена интерференции, и уязвимостью ("хрупкостью", непрочностью), которая приводит к спонтанному угасанию следа во времени32. Не правда ли, остроумно? Сравните – вот М. А. Булгаков в "Театральном романе" описывает свое представление о процессах забывания: "Удивительно устроена человеческая память... Кой что вспоминаешь, прямо так и загорится перед глазами, а прочее раскрошилось, рассыпалось, и только одна труха и какой-то дождик в памяти". При сопоставлении с новомодными когнитивными теориями "теория" Булгакова о трех типах следов в памяти (т. е. следов, ярко стоящих перед глазами, раскрошенной трухе и дождике), на мой взгляд, выигрывает: она выполнена в более художественной форме, но при этом еще и ничуть не хуже соответствует эмпирике. Ибо дождливость следа так же не подлежит наблюдению, как и его уязвимость.
Единственное утешение, что пропасть, в которой находятся родственные теории, например теории научения, еще глубже.
Под научением обычно понимается процесс повышения эффективности деятельности в результате упражнения, т. е. многократного повторения одних и тех же действий. Особо оговаривают: научение отличается от обучения главным образом тем, что не предполагает передачи знания от учителя (или учебника) к ученику. Иначе говоря, процесс научения – это повышение эффективности деятельности без получения какой-либо дополнительной информации о том, как эту деятельность надо выполнять. В литературе к научению относят, прежде всего, сенсомоторное научение, когда задача испытуемого связана с реакцией на какие-то многократно предъявляемые стимулы. Иногда к научению относят и процесс заучивания в памяти, поскольку там наблюдается повышение эффективности вспоминания предъявленного материала в результате повторных предъявлений этого материала. Важное замечание: сенсомоторное научение отличается от заучивания в памяти только на эмпирическом уровне, нет никаких оснований рассматривать эти процессы как теоретически отличающиеся друг от друга. Ц. Флорес прав, когда пишет: "Память можно объяснить лишь в рамках теорий, описывающих в одной и той же системе понятий и явления научения, и мнемические явления"33. Тем не менее существующие теории научения, как правило, никак не связаны с существующими теориями заучивания.
Научение – сложный когнитивный процесс, описание которого изначально содержит в себе неразрешимые парадоксы. Научить живое существо можно только тому, что оно может делать. Слон, например, никогда не научиться летать, даже если его очень долго тренировать. Но если животное может делать то, чему должно научиться, то почему ему надо учиться? Если оно не умеет этого делать (да еще и не получает никакого дополнительного знания о том, как совершать это действие), то как может научиться? Бихевиористы, обходящие, как им и положено, все гносеологические проблемы, вынуждены выражать удивление, когда животное не удается научить простому поведению. Из одной книги в другую они с огромной серьезностью и изумлением переносят байку о еноте. Енота научили приносить и бросать деревянную монету в свинью-копилку. Однако, когда ему давали две монеты, енот не мог справиться с задачей: он тер их друг о друга, а если и бросал в копилку, то потом снова вынимал и опять тер. Дрессировщики (К. и М. Бреланды – ученики Б. Скиннера) вынуждены были отступить перед тем, что они назвали "дурным поведением животных"34. Мне, впрочем, не понятно, что, собственно, питию удивление исследователей и что дурного со стороны енота в том, что никакая дрессура не может научить его, например, играть в шахматы?
Со времен античности известен парадокс поиска нового знания. Как челoвек ищет новое знание? – спрашивали изумленные греки. Недь если он не знает, что ищет, то что же ищет? А если знает, то это не новое знание. Этот парадокс применим и к процессу научения. Если человек умеет делать то, чему научается, то ему незачем научаться. А если не умеет, то как может научиться? Как ни странно, эту головоломку не замечают. Ребенок, говорят, вначале не может поднять тяжелый камень, но с возрастом у него развивается мышечный аппарат, он, наконец, сам тренирует свои мышцы и тем самым научается этот камень поднимать. Человек не умеет играть в шахматы. Но вот он ознакомился с правилами, пробует свои силы в первых партиях и постепенно начинает все лучше пользоваться правилами игры. В чем проблема?
Однако в приведенных примерах речь не идет о научении. У ребенка происходит созревание мышечной массы, но этот процесс протекает независимо от задач научения. Так, узкие ботинки постепенно разнашиваются, но нельзя же всерьез считать, что они научаются. Приобретение знаний в процессе научения тоже происходит. Нои это – сопутствующий научению фактор. В компьютер можно ввести программу распознавания речи, учитывающую накопленный до этого опыт распознавания. Но вряд ли стоит говорить, что теперь компьютер научается распознавать речь. Поясню загадочность реального процесса научения на примере. В одном исследовании взрослому человеку предъявлялось 10 лампочек так, что в ответ на зажигание некоторых из них он должен был как можно быстрее нажимать на соответствующие клавиши. Оказалось, что научение не закончилось и после 75 тысяч проб – время реакции испытуемого продолжало уменьшаться. Чему именно в этом эксперименте научался испытуемый? Быстро нажимать на кнопку в ответ на сигнал?
Научение характеризуется тем, что человек путем многократного повторения одних и тех же действий постепенно все лучше и лучше делает то, чему он учится. Но позвольте: как в результате повторения одних и тех же действий можно повысить эффективность деятельности? Ведь если действия одни и те же, то эффективность просто не может повышаться. Как бы часто ни повторялись те же самые неумелые действия, они останутся теми же неумелыми действиями. А если действия не одни и те же, то зачем нужно повторение? Пожалуй, только Н. А. Бернштейн честно признавал наличие этой проблемы. Есть у этого парадокса и важные дополнительные обертоны: как человек, переходя в процессе научения от одних неумелых действий к другим, узнает, что вторые неумелые действия лучше, чем первые?
Первые теории научения возникли в лоне физиологии высшей нервной деятельности (за любовь к термину "условный" назовем эти теории вслед за Бернштейном кондиционистскими) и их ближайшего психологического сородича – бихевиоризма. Методическое остроумие экспериментаторов впечатляет. Оно позволило получить фейерверк неожиданных результатов. Я восхищаюсь красивыми экспериментами, проведенными в этих школах, осознаю ценность разработанных ими методов исследования и даже признаю важность изучения физиологического аппарата, обеспечивающего когнитивные процессы. Но при всем при этом с большим недоверием отношусь к их объяснительным конструкциям. Ибо когда знакомишься с созданными ими теориями внимательнее, не покидает мысль, что ключевое слово "научение" внесено в заглавие этих теорий по тому же принципу, каким воспользовался замечательный писатель О. Генри, назвавший свой роман "Короли и капуста". В этом романе, как известно, рассказывалось о чем угодно, кроме вынесенных в заглавие и напрочь отсутствующих в тексте королей и капусты.
Классические бихевиористы вслед за школой И. П. Павлова стали строить теории научения, в которых подчеркивалась роль подкрепления в процессе научения. Мол, именно наличие подкрепления приводит к образованию связи между разными раздражителями. Идея рождена экспериментами по выработке условных рефлексов. Так, звонок, предупреждающий о подаче пищи, начинает связываться с самим процессом еды и сам по себе вызывает слюноотделение. Или же: если какие-то движения животного приводят к успеху, тогда оно стремится их повторять и образуется временная (в терминах павловской школы), сочетательная (термин В. М. Бехтерева) или ассоциативная (бихевиоризм) связь "движение – успех". Вообще здесь используется море синонимов. Павлов в последние годы предлагал не различать временную связь как физиологическое явление и ассоциации как психологический феномен и говорил об их "полном слитии, полном поглощении одного другим, отождествлении"35. Э. Торндайк вводил представление о связях, находящихся в отношении сопринадлежности (appurtenance). Предполагается, что эта связь образуется где-то в головном мозге. Приводится огромное количество подтверждающих эмпирических аргументов: в опытах на животных показано заметное влияние величины, частоты и времени подкрепления на скорость выработки условных рефлексов; выработанный навык угасает, если он перестает подкрепляться, и т. д.
Честно признаюсь, в этой схеме не понимаю ничего, хотя она и сегодня, наверное, рассказывается студентам во всех странах мира. Во-первых, не ясно, что с чем связывается. Во-вторых, загадочно, как связь образуется и почему она должна "упрочиваться". И в-третьих, не понятно, как это все приводит к повышению эффективности деятельности. Попробуем в этом разобраться поподробнее, учитывая популярность этих концепций в научном сообществе (к счастью, падающую).
Итак, что же с чем связывается? Связь предполагает участие в ней по меньшей мере двух сторон. Обычно в качестве этих сторон называются либо "движение – подкрепление" при выработке инструментальных рефлексов, либо "стимул (условный сигнал) – подкрепление (безусловная реакция)" при выработке условных рефлексов. Вначале обсудим ту сторону этой связанной пары, которая именуется подкреплением. Что же именно выступает в качестве этой "связанной стороны"?
Прежде всего, подкрепление – процесс, имеющий свое начало и конец. Что является подкреплением в задаче избегания: болевое раздражение целиком, ожидание болевого воздействия, начало болевого раздражения или, как полагал, например, К. Халл, акт прекращения болевого раздражения? Собаке в качестве подкрепления дали мясо. Что же включается в связь? Сам факт появления мяса в кормушке? Попадание мяса в ротовую полость? Процесс поедания мяса? Момент попадания мяса в желудок? Выделение желудочного сока? Чувство насыщения? Чтобы почувствовать весь ужас этой проблемы, рассмотрим механизм замыкания подражательного условного рефлекса. Л. А. Орбели представлял его следующим образом. У животного-"зрителя" во время наблюдения за условнорефлекторными действиями другого животного в результате раздражения видом и запахом пищи, которую дают другим животным, возникал очаг возбуждения. Далее этот очаг связывался с другим очагом, вызванным условным раздражителем36. Если принять эту интерпретацию, то вид и запах пищи уже являются подкреплением.
Но этого мало. Л. В. Крушинский обнаруживает у животных экстраполяционный рефлекс. Оказывается, что животное способно предугадать невидимое им движение кормушки за ширмой: оно безошибочно бежит навстречу двигающейся кормушке37. Итак, по-видимому, в подкрепление должно входить представление о месте нахождения подкрепления? В исследовании П. К. Анохина выяснилось: если при выработке условного рефлекса заменить обычно даваемый собаке мясосухарный порошок (смесь молотых сухарей, мясо костной муки и воды в соотношении 1:2:1,5) на подкрепление "большей силы" – на мясо, то голодная собака отворачивается и не ест. Она ведет себя вопреки тому, что Павлов называл "общим физиологическим законом" (т. е. обязательности движения организма к благоприятствующим его существованию факторам), потому что ожидает в качестве подкрепления порошок!
Наконец, обнаруживается, что обезьян не удается научить понимать человеческую речь, если использовать только пищевое подкрепление, но они вырабатывают подобный навык при совершенно других формах поощрения. Пишет У. Фернесс: "Обе мои человекообразные обезьяны способны были понять то, что я говорю, более разумным образом, чем любое специально обученное животное, которое я только видел. В воспитании этих обезьян пищевая приманка никогда не использовалась, а единственным вознаграждением были похвала и ласка"38. Так что же именно является тем "подкреплением", которое вступает в связь? Все названное, а заодно и все остальное? Но все это вместе даже перечислить невозможно, как же оно может вступать в связь? Это отнюдь не пустой вопрос. Ибо если хотя бы одна сторона, вступающая в связь, не определена, то о какой связи вообще идет речь? Единственный выход из положения – определить, что подкреплением является то, что животное принимает за подкрепление. Сами исследователи при этом, разумеется, не знают, что животное решает принять за подкрепление. Как, например, из умозрительных соображений решить, что произойдет, если собаку регулярно кормить не мясосухарным порошком, а бараниной, а потом нежданно "подкрепить" говядиной или уткой – она и в этом случае отвернется?
Но это еще полбеды. За схемой вообще не заметили логической подмены. Успех не может привести к научению – ведь для достижения успеха животное уже должно быть наученным, лишь потом оно может образовывать связи с подкреплением. Подкрепление же в принципе не может ничему научить и даже не может хоть как-то помочь научению. Как ни корми крыс или голубей, они не научатся играть в преферанс. И если, например, животное не способно отличить синий цвет от зеленого или вертикально заштрихованную дверцу от горизонтально заштрихованной, то никаким вознаграждением такую способность не развить. Вот как осторожно о роли подкрепления пишет А. Бандура, дрейфующий от чистого бихевиоризма к когнитивистски окрашенным конструкциям: "Подкрепление представляет собой эффективное средство регуляции уже заученного поведения, но в то же время оно является относительно малоэффективным способом его формирования"39. Я бы высказался резче: подкрепление вообще не может быть ни способом, ни причиной научения, а играет лишь роль информирующего и мотивирующего начала.
Во-первых, оно дает животным обратную связь о правильности их действий с точки зрения экспериментатора (иначе, например, крысе никак не узнать, что экспериментатор хочет, чтобы она подходила именно к вертикально заштрихованной дверце, а не к какой-нибудь иной). И в этом нет ничего удивительного. Влияние информации о результатах деятельности на процесс научения хорошо известно. Как обнаружил еще Э. Торндайк, можно несколько тысяч раз нарисовать линию заданной величины, но без контроля зрения и без учета сделанной ошибки не только нельзя научиться нарисовать правильно, но даже не будет происходить какой-либо стабилизации в размере нарисованных испытуемым линий. Иначе говоря, для повышения эффективности в процессе научения необходима обратная связь. Среди многочисленных исследований на эту тему укажу работу И. Лингарта: дети разного возраста должны были нажатием кнопки реагировать на начало движения секундомера из нулевого положения. В одной группе после нажатия кнопки секундомер сразу останавливался. Во второй – стрелка секундомера продолжала двигаться еще в течение 2-5 с. Иначе говоря, в первой группе испытуемые могли точно оценивать свою реакцию, во второй – лишь приблизительно. Время реакции в среднем в первой группе намного меньше, чем во второй. И это различие с возрастом только увеличивается40. Поэтому же и подкрепление в той мере, в какой оно выступает как информация о результатах деятельности, обязательно будет влиять на научение.
Процесс заучивания не должен, как уже говорилось, принципиально отличаться от процесса научения. Поэтому поклонники теории связи, признающие важнейшую роль подкрепления, с ужасом ссылаются на факты, гласящие, что подкрепление хотя и определяет выбор заучиваемого материала, но почти не влияет на эффективность заучивания. Например, Л. Нильссон предъявлял трем группам студентов один и тот же список слов. Первая группа просто его заучивала. Во второй группе обещали большой денежный приз тому, кто вспомнит больше всех слов. В третьей обещание денежного приза давалось перед началом воспроизведения. Разницы в объеме воспроизведения у этих трех групп не было41. Тем не менее большинство (если не все) исследователи уверены, что сенсомоторное научение тем эффективнее, чем выше мотивация (иногда с оговоркой: если мотивация не чрезмерная). Однако не знают, как это доказать, поскольку внешняя стимуляция, которую вводит экспериментатор, далеко не всегда определяет реальную мотивацию поведения человека, а подлинная мотивация с трудом подлежит исследованию – это "очень привлекательный, но ускользающий конструкт"42. Приводимые примеры (соревновательный эффект обычно, но далеко не всегда, ускоряет научение и т. п.) скорее подчеркивают положительную роль общей активизации организма в процессе научения. Вообще говоря, неудивительно, что исследования над людьми уже не столь однозначно показывают влияние подкрепления на обучение. Просто в экспериментах с человеком подкрепление во многом теряет свою информирующую роль. Ведь человек способен воспринять словесную информацию о критериях оценки эффективности своей деятельности и оценивать результаты своей деятельности, опираясь именно на эти критерии.
Во-вторых, подкрепление служит для умеющих, т, е. научившихся, животных основанием совершать эти задуманные экспериментатором действия. Эту мотивирующую роль подкрепления хорошо демонстрирует эффект Креспи. В экспериментах Л. Креспи (1942 г.) мыши научались бегать по лабиринту и находить кормушку. Одна группа получала у цели 16 зернышек пищи, вторая – 66, а третья – 256. Оказалось, что скорость прохождения лабиринта строго соответствует вознаграждению: первая группа бегала медленнее всех, а третья – быстрее всех. Но стоило экспериментатору изменить условия и всем мышам выдавать минимальное подкрепление, как скорость пробежки во второй и третьей группы снизилась до скорости первой43.
Подведем итог: надежда на будущее вознаграждение может способствовать тому, что человек начнет учиться. Эта надежда может также повысить активность субъекта в процессе научения. Получение вознаграждения даст ему понять, что он достаточно хорошо научился. Стремление получить обещанное вознаграждение может побуждать человека делать то, чему он уже научился. Однако никакое вознаграждение само по себе не научит ни играть на скрипке, ни плавать, ни левитировать, ни отличать синее от зеленого. И вознаграждение за пойманного льва получит только тот, кто уже умеет ловить львов, т. е. тот, кто его поймает.
Неудивительно, что научение у животных обнаруживается и без всякого подкрепления. На Западе это явление получило название латентного научения. Считается, что первым феномен латентного обучения обнаружил X. Блоджетт. Он в течение девяти дней по одному разу в день помещал в лабиринт три группы одинаково голодных крыс. Первой группе подкладывали корм в целевой камере с первого же дня, второй – с третьего, а третьей – с седьмого. Первая группа лишь к четвертому дню научилась быстро находить целевую камеру. И далее медленно улучшала свои достижения. Но как только крыс второй и третьей групп начинали подкармливать в лабиринте, они почти сразу достигали скорости пробежки первой группы. Отсюда делался вывод: они заранее научились ориентироваться в лабиринте, еще не получая подкрепления44.
В исследовании К. Спенса и Р. Липпитта хорошо накормленные и напоенные водой крысы бегали по U-образному лабиринту. В правом конце лабиринта помещали воду, в левом – пищу. Выпущенные из клетки крысы просто с удовольствием бегали по лабиринту, хотя и не получали никакого подкрепления: когда они находили кормушку, их сразу же возвращали в клетку. Так продолжалось семь дней. В день проводилось четыре опыта: два опыта с кормушкой в правом конце и два опыта – в левом. В критическом опыте животные были разбиты на две подгруппы: одну из них не кормили, другой не давали пить. Затем их запускали в лабиринт. Голодные крысы чаще с первой же попытки бежали в левый конец, где была пища, а крысы, страдавшие от жажды, также с первой попытки чаще бежали в правый конец, где была вода45.
Если животные только наблюдают за действиями своих сородичей, то они способны научиться этим действиям, сами при этом не получая никакого подкрепления. (Подобные явления Л.А. Орбели как раз и называл "подражательным условным рефлексом".) В исследовании М. Херберта и К. Хэрша кошки вращали диск и получали за это пищу. За происходящим следили кошки-наблюдательницы. Когда последних посадили в клетку с диском, то они гораздо быстрее первых научились вращать диск46. По утверждению А. Бандуры, у видов, стоящих на высоких ступенях развития, разительно проявляется превосходство научения через наблюдение над научением через подкрепление47. Неужели наблюдение за поеданием пищи другим животным подкрепляет сильнее, чем потребление пищи?
В школе Павлова тоже было открыто латентное научение. Оно, правда, было названо сенсорным предусловным рефлексом. Например, собакам предъявляли 20-30 сочетаний двух последовательно действующих раздражителей без всякого подкрепления (например, звук и свет). После некоторого количества сочетаний этих раздражителей на один из них в последующем вырабатывался условный пищевой или оборонительный рефлекс. Оказалось, что второй раздражитель сразу же без всякого научения вызывает точно такую же пищевую или оборонительную реакцию48. Итак, даже у животных научение может происходить без непосредственного подкрепления. Это тем более верно для человека. Но, разумеется, в глазах бихеви-ористов и физиологов – кондиционистов данные о латентном научении никоим образом не опровергли их теории. Эти любители строгой эмпирики вообще легко уживаются с любыми противоречиями.
Но вернемся к теориям связи. Допустим, что у исследователя все же имеется какое-то представление о подкреплении – пусть хотя бы интуитивное. А вот загадочность того, что считать движением (движение, как мы помним, – кандидат на вторую сторону связки), полностью заводит в тупик всю концепцию. Любое живое существо постоянно совершает множество разных движений – какое именно из них должно оказаться "связанным"? Б. Скиннер утверждал: подкрепление всегда что-то подкрепляет, поскольку неизбежно совпадает с каким-либо поведением животного49. К тому же никакое движение никогда не выполняется одной какой-то мышцей, всегда оказывается задействованной целая система мышц, причем каждая мышца сразу повинуется множеству центров50. И наконец, самое главное: движения, как показал еще Бернштейн и как следует из самой сути процесса научения, т. е. процесса изменения, никогда не повторяются, а значит, никакое конкретное движение в принципе не может быть участником постулируемой связи!
Уже в опытах на животных видно, что научение одним движениям легко переносится на другие движения. Так, кошка, научившаяся открывать клетку, оттягивая петлю лапой, в следующий раз может оттянуть петлю зубами51. Даже краб научается двигаться в лабиринте с помощью, как отмечают исследователи, бесконечно разнообразных движений52. Животное, научившееся пробегать по лабиринту, может совершенно безошибочно сразу же без всяких проб проплыть по данному лабиринту53. То же самое с еще большей степенью очевидности мы можем сказать про человека. Простейший пример: тренировка в выполнении движения правой рукой приводит к более быстрому научению тому же движению левой рукой и даже ногой54.
Шимпанзе Джулия научилась открывать один за другим 14 ящиков: в каждом ящике лежал инструмент, необходимый для открывания следующего (ключ, отвертка, ножницы для разрезания проволоки и пр.), и только в последнем ящике лежал вкусный плод. После того как Джулия научилась действовать безошибочно, ящики переставили в случайном порядке. И вот шимпанзе открыла первый ящик, достала лежащий там инструмент, а затем, бегая между ящиками, довольно быстро отыскала тот, который можно было открыть с помощью этого инструмента55. Какому движению научилась эта обезьяна, ведь она не училась искать ящики, соответствующие инструменту?
Чтобы выкручиваться из подобных трудностей, бихевиористы вынуждены строить ничего не объясняющие конструкции. Например, рассматривается такая ситуация: "Ребенок прикасается к горячему радиатору. Боль приводит к возникновению реакции избегания, и уход от болевых ощущений является подкреплением этой реакции". Теперь надо объяснить, как ребенок устанавливает связь по типу движение – подкрепление и научается не обжигаться. Ребенок автоматически отдергивает руку от горячих предметов, эта связь изначально существует, ей не надо учиться. Весь вопрос: как он способен научиться не дотрагиваться до горячего радиатора? Тут-то и начинается спекуляция: "Так как вид и мускульные ощущения руки, приближающейся к радиатору, похожи на вид и мускульные ощущения руки, касающейся радиатора, то подкрепляемая реакция избегания генерализируется от последней ситуации к первой (вот и якобы ответ: не конкретное движение связывается с подкреплением, а нечто загадочное, генерализованное. – В. А.). После одной или более проб ребенок протянет руку к радиатору и отдернет ее, не прикоснувшись"56.
Обратите внимание на логическую подмену: вряд ли может существовать описание движения, пусть даже генерализованного, приводящего к непопаданию на горячую печь. Переход от прикосновения, вызывающего ожог, к команде "не прикасаться" никогда не может быть выполнен в результате индуктивного обобщения. М. Твен, объясняя разницу между поведением человека и животного, как-то написал: "Кошка, однажды севшая на горячую печь, никогда больше на нее не сядет. Но она никогда не сядет и на холодную". Не берусь судить о кошке. Но если поверить в объяснение Д. Долларда и Н. Миллера, то ребенок уж точно никогда не дотронется до холодного радиатора (более того, не дотронется до всего, лишь похожего на радиатор).
Надеюсь, сказанного достаточно, чтобы признать: постулируемая физиологами и бихевиористами связь между движением и подкреплением если и может существовать, то, судя по их текстам, только в свободном от логики сиреневом тумане.
Не удается строго определить и то, что именно воспринимается животным как условный сигнал. Животное воспринимает многочисленные сигналы, многие из них предопределены самой экспериментальной ситуацией. Как оно способно понять, какой именно сигнал является условным? На какой именно сигнал из многих надо реагировать? Единственно возможный ответ: оно должно реагировать на тот сигнал, который, по мнению экспериментатора, является условным. Чтобы, дорогой читатель, вы не запутались, отмечу, что наблюдаемая реакция на другие сигналы получила название (П.С. Купалов) "ситуационного условного рефлекса", т. е. животное реагирует не на сигнал вовсе, а на ситуацию в целом. Если же в одной ситуации животное реагирует на данный условный сигнал, а во второй – нет, то говорят, что или только в первой ситуации создается необходимая условно-рефлекторная установка, либо вторая ситуация вызывает условное торможение. Если животное реагирует не на сам условный сигнал, а на сигнал, лишь похожий, по мнению экспериментатора, на условный (добавлю: объективного критерия для определения наличия-отсутствия похожести не существует), то, как уже упоминалось, говорят, что это – генерализация. Э.А. Асратян вообще считает, что в связь вступает не сам условный сигнал, а вызванная им безусловная ориентировочная реакция.
"Теория связи" предполагает еще и условия, при которых обе стороны вступают в связь. Обычно признается необходимость смежности условного сигнала во времени (на самом деле и в пространстве) с подкреплением. Казалось, надо было бы еще предположить существование блока, регистрирующего временные совпадения и принимающего решения относительно того, достаточны они для образования связи или нет. Но для теорий, заведомо лишенных проблем, – это всего лишь не обсуждаемое когнитивистское излишество. Впрочем, знатокам теории Павлова легко заметить, что даже и для этой теории вопрос о времени – отнюдь не простой вопрос. Ведь Павлов объявил два основных и одинаково необходимых условия выработки условного рефлекса, хотя эти условия заведомо противоречат друг другу: 1) условный сигнал должен совпадать во времени с действием безусловного агента; 2) условный сигнал должен предшествовать действию безусловного раздражителя57. Основатели учения, как правило, настолько велики, что могут вместить в себя любые противоречия. Их задача – побудить других смотреть на мир под предложенным ими углом зрения. Но в завершенной теории все же желательно избавляться от логических нестыковок.
Итак, когда физиологи и психологи говорят о подкреплении, движении, об условном сигнале, они на самом деле осуществляют сложнейшую когнитивную операцию отождествления нетождественного, объединяя под одно понятие весьма разные вещи. Ими же полученные данные, по сути, доказывают, что подобную операцию в каком-то виде способны выполнять и животные – иначе у животных не вырабатывались бы условные рефлексы. И разве удивительно, что животное, способное к отождествлению разных вещей, способно отождествить с подкреплением еще и индифферентный, с точки зрения экспериментатора, раздражитель? Образование связи, о которой так много и помпезно говорится, есть всего лишь частный случай когнитивной операции отождествления нетождественного. И это естественно: без умения осуществлять эту операцию никакая познавательная деятельность вообще невозможна. Д. П. Горский справедливо относит закон отождествления нетождественного "к протометодологии" познания58. Поэтому не стоит удивляться, что способные к познанию животные обладают умением отождествления. Но если животные изначально умеют связывать между собой нетождественные вещи, реагировать на них как на тождественные, то зачем дополнительно постулировать наличие каких-то других что-то с чем-то связывающих процессов?
Так и хочется спросить бихевиористов: зачем вы стремились отказаться от психики и сознания как от ненаблюдаемых сущностей, если при этом ввели столь невнятную идею ненаблюдаемой связи, когда не слишком известно что связывается с невесть чем? Ну да ладно. Допустим, что, несмотря на неизвестность сторон, вступающих в связь, эта связь все-таки образовалась. Казалось бы, теперь-то научение должно закончиться. Но не тут-то было. Нас уверяют, что научение продолжается и после установления связи. Объявляется, что это утверждение соответствует эмпирике. Действительно, при упражнении улучшается выполнение всех сенсорных и моторных задач. Поражает другое – отсутствие зарегистрированных границ этого совершенствования. Исследование навыков проводилось на самом разнообразном материале: бросание мяча, работа на телеграфном ключе, наматывание катушек, рисование в зеркальном отражении, стрельба из лука, подстановка однозначных чисел, решение механических головоломок и т. д. Д. Норман утверждает, что выполнение простейших действий (например, сворачивание сигар) может совершенствоваться у рабочих даже после миллиона повторений в течение десяти лет работы. Постоянно уменьшается время сложения в уме и называния суммы предъявленных чисел – и десяти тысяч проб мало, чтобы это время стабилизировалось59. В результате научения снижаются пороги зрения, слуха и кожной чувствительности, улучшается определение высоты звука, пространственное различение. Многократное упражнение приводит к лучшему выделению деталей и распознаванию стимулов, предъявляющихся в трудных условиях (например, при тахистоскопическом предъявлении или при слабой освещенности) и т.д60. Можно в результате тренировки добиться даже того, что при предъявлении звука изменяется уровень чувствительности глаз к свету61. В фигурном катании при выполнении обязательной программы спортсмены должны скользить на определенном (внешнем или внутреннем) ребре конька, а ширина этого ребра не превосходит трех миллиметров. Мышечное и тактильное восприятие стопой отклонения конька на пару миллиметров ("чувство ребра конька") возникает у фигуристов лишь через семь с половиной лет напряженных упражнений, но все-таки возникает62. Резюме всех подобных исследований подводит Г. Готтлиб с соавторами: "Не существует такого акта у человека, чтобы он был слишком простым для усовершенствования"63.
Уже Дж. Уотсон нашел идею объяснения постоянного улучшения. Животное стремится повторять попытки, ведущие к успеху. Вариантов неуспешных действий много, а успешное действие всегда одно. Так как опыт ведется до достижения успеха, то успешные попытки присутствуют всегда, а неуспешные варианты могут встречаться, а могут и не встречаться. Делая из этого вывод, он утверждает, что успешные действия совершаются чаще остальных. (К. Коффка, на мой взгляд, справедливо издевается над этой аргументацией, но, отмечая общую сумятицу в логике бихевиористских концепций, не стану здесь придираться к мелочам.) И вот оно главное утверждение, типичное как для бихевиористов, так и для кондиционистов, поражающее своей простотой и невероятием. Они говорят: чем чаще действие связывается с успехом, тем прочнее становится связь между ними, а чем прочнее связь, тем точнее и быстрее осуществляется данное действие – вот, мол, вам и научение. Признаюсь, это уже совсем за гранью моего понимания.
Почувствуйте, насколько фантастическим выглядит у физиологов кондиционистов и их родственников – бихевиористов итоговое описание научения: человек или животное делают разные хаотические попытки, одни из них оказываются более удачны, чем другие; научение же заключается в том, что лучшие попытки закрепляются и далее только совершенствуются. Именно так вслед за многими и пишет, например, Э. А. Асратяк: "Случайные удачные движения при повторениях постепенно закрепляются и совершенствуются"64. Вам понятно? Мне – нет, ибо всегда казалось, что между закреплением (т. е. сохранением) и совершенствованием (т. е. изменением) связь дизъюнктивная, а не конъюнктивная: или одно, или другое, но не оба вместе. Например, если проявляемую фотографию закрепить фиксажем, то она уже не совершенствуется. Даже если после закрепления лучшей попытки человек зачем-то все равно продолжает делать хаотические попытки, то достижение более замечательного результата не имеет никакого отношения к закреплению предшествующей попытки, это достижение является просто случайным следствием продолжения хаотических попыток. В рассматриваемой версии никакое научение вообще не может происходить!
К примеру, ребенок учится выполнению какого-либо сложного действия. Согласно обсуждаемой теории, он совершает разнообразные неудачные движения и наконец-то достигает некоторого прогресса. Однако успех еще очень незначительный. Его движения пока крайне неумелы. По высказанной "теории", он закрепляет, но что? Совокупность неумелых движений? Ясно, что нет. Может быть, он хотя бы закрепляет удачные фрагменты движения? И это невозможно. Еще раз напомню слова Н. А. Бернштейна: "Движение никогда не реагирует на деталь деталью. На изменение каждой малой подробности оно откликается как целое, обнаруживая с наибольшей выпуклостью изменения в тех частях, которые иной раз далеко отстоят от первично измененной детали как в пространстве, так и во времени"65. Следовательно, нельзя закрепить удачный фрагмент движения, ибо с изменением малейшей детали меняется весь ансамбль движений. Так что же закрепляется?
В серии строгих исследований Бернштейн изучал строение движений в процессе формирования навыков у человека. Он реально обнаружил то, что выше уже подразумевалось: при тренировке моторных действий движения, из которых слагается действие в целом, всегда разные. Отсюда знаменитая формула Бернштейна: упражнение есть повторение без повторения. "Упражнение представляет собой не повторение и не проторение движения, а его построение"66. Да и по логике: развитие навыка заключается как раз в том, что следующее исполнение должно быть лучше предыдущего. Повторяются не движения, а процесс поиска решения двигательной задачи, а это, добавим мы, есть некий сложный когнитивный процесс. Не существует и не может существовать никакого конкретного движения, которое при этом закрепляется.
Сравним формирование связи в процессе научения со строительством моста между двумя берегами (при этом временно забудем о том, что само конкретное место строительства нашими теоретиками связеобразования никак не обозначено). Попробую выразить в рамках этой метафоры две возможные идеи "упрочения связи-моста". Первая выглядит примерно так: вначале конструируется веревочный мост. Проектировщик наблюдает за "работой" моста и регистрирует проходящих по нему людей. Когда это число достигает заданной критической величины, мост "упрочивается" и переделывается в деревянный. Затем его делают еще прочнее – бетонным. Другая идея "упрочения связи" может быть, например, такова: строят много веревочных мостиков, а проектировщик смотрит – по каким из них люди чаще ходят? Наиболее часто выбираемые мостики постепенно переделывают в деревянные, а из них уже позднее выбирается тот единственный, который впоследствии превращается в бетонный.
Аналогично "упрочение связи" на теоретическом языке может выражать по меньшей мере две разные вещи. В первом случае оно должно быть связано с учетом (или даже с намеренным возрастанием) частоты совместной встречаемости связанных явлений. Но тогда должны существовать, во-первых, когнитивные механизмы, ведущие соответствующие статистические расчеты, а во-вторых, способы влияния на изменение этих статистических параметров. Или "упрочение связи" – это увеличение приоритета данной связи среди многих других, реально существующих. Тогда надо исследовать другие варианты связи (что они такое, откуда берутся?), а заодно описать критерии выбора из многих связей одной. Наверняка возможны и другие варианты трактовки "упрочения связи", но во всех случаях упрочение может быть только результатом принятия решения об упрочении. Как это решение принимается?
Физиологи и бихевиористы почему-то об этом когнитивном аспекте своих теорий вообще не рассуждают, а лишь усердно упрочивают собственные представления об упрочении. Но вся эта конструкция трещит по швам при соотнесении с реальным опытом. Как, например, быть с фактами научения с первого раза? Бернштейн в связи с этим уже просто издевается "над теоретиками условных рефлексов", которые приняли как нечто само собой разумеющееся крайне медленную скорость запечатлевания условных связей67. Впрочем, это издевательство накануне печально известной павловской сессии Академии наук стоило ему последующего долгого молчания.
Физиологи не думают ни о проектировании места для их сугубо гипотетического моста между гипотетическими очагами возбуждения, ни о функциях этого моста. Их интересуют лишь способы его постройки. В конце концов, это и есть их профессиональная задача. Но они делают ошибку, когда сводят к технологии строительства весь процесс научения. Без определения места строительства ни один мост (даже веревочный) вообще не может быть построен. Научение – когнитивный процесс, а его редуцировали до автоматического "проторения путей" в центральной нервной системе. Потом, правда, вынужденно признали, что никакого нового морфологического пути не возникает68, а потому породили очередную спекуляцию: постулируемая связь имеет не морфологическую, а функциональную природу (т. е. реального моста нет, а есть только виртуальный). Разумеется, процесс научения должен быть обеспечен физиологическими механизмами, но не понятно, как благодаря этим механизмам удастся разрешить гносеологические проблемы. Бихевиористы же вообще редко задумываются над сутью изучаемого ими процесса (ибо суть всегда не наблюдаема), а потому и не могут сформулировать серьезные законы, которым этот процесс подчиняется.
Когнитивные теории научения тоже возникли достаточно давно. Они опирались как на факты латентного научения, так и на анализ графиков зависимости изменений в результатах деятельности от числа упражнений (кривых научения). Для кривых научения характерен непрерывный подъем, отражающий изучаемое повышение эффективности. Однако этот подъем часто сменяется плато – временным прекращением подъема кривой. Плато рассматривается как период перестройки навыка, период "изменения когнитивных структур или модификации стратегии поведения", как своеобразная творческая пауза. Иначе говоря, рассматривается как характеристика когнитивного процесса. Обычно считается, что появление плато более вероятно при овладении сложными операциями69. Часто также предполагается, что в конце плато наблюдается некоторое ухудшение результатов70. Даже развитие моторики в онтогенезе включает в себя периоды "временной остановки развития" (т. е. плато) и даже периоды регресса71. Однако многие исследователи подчеркивают очень большую вариативность данных и их неоднозначность. В некоторых работах наличие плато в процессе моторного научения вообще отрицается. Так, Д. Холдинг уверяет, что феномен плато чаще обсуждается, чем наблюдается72. Плато фиксируют не только в процессе и в конце научения (обычно оговариваясь, что, продолжая тренировку, можно перейти к следующему подъему и к следующему плато), но иногда и в его начале73.
Гештальтисты полагали: в процессе научения субъект начинает иначе понимать ту же самую ситуацию. Когнитивист Д. Норман поясняет это на собственном примере. Он учился принимать сигналы азбуки Морзе и достиг своего потолка – дальнейшие попытки не приводили к улучшению (плато на кривой научения). Сколько он ни пытался ускорить прием, у него не получалось, пока опытный телеграфист не сказал ему: принимай текст не по буквам, а по словам. Это сразу перестроило его деятельность. И сразу резко улучшились результаты74. Но и гештальтистский взгляд не решает всех проблем. Конечно, если человек не знает чего-либо, важного для решения задачи, то после получения соответствующей информации он может перестроиться и оказаться более эффективным. Однако научение (в отличие от обучения) как раз обычно не связано с поступлением новой все разъясняющей информации. Ну что нового стало известно испытуемому после 75 тысяч нажатий на клавиши в ответ на вспышки лампочек? Ведь сам испытуемый в таких случаях ничего не знает о совершившейся перестройке.
Действительно, можно показать, что научение может происходить у человека даже тогда, когда он не осознает, чему именно научается. Р. Хефферлайн с соавторами подкреплял не осознаваемые испытуемыми мышечные сокращения, выявляемые только с помощью электронного усилителя (положительное подкрепление – денежное вознаграждение, отрицательное – неприятная стимуляция). Никто из участников не смог определить, какие из реакций вели к подкрепляющим последствиям, хотя каждый из них выдвигал собственную неправильную гипотезу. Тем не менее подкрепление усиливало вырабатываемые реакции, а прекращение подкрепления вело к ослаблению этих реакций75. С помощью обратной связи испытуемые способны также управлять биологической активностью мозга, вегетативными функциями организма, не всегда осознавая, как им это удается76. Даже условный сигнал может не осознаваться. И. Лингарт, например, регистрирует последовательное уменьшение времени уклонения от слабого электрокожного раздражителя при наличии предупреждающего сигнала. Это уменьшение происходило у испытуемых вне контроля сознания, т. е. в тех случаях, когда испытуемые даже не осознавали, что им давался предупреждающий сигнал77. Различие между условным сигналом и похожим на него неподкрепляемым сигналом тоже может не осознаваться испытуемым, но при этом условный рефлекс вырабатывается именно на условный сигнал. Так, предъявление испытуемым эмоционально значимого слова сочетается с предъявлением стрелки с наклоном в 35°, а предъявление нейтрального слова – с наклоном стрелки в 30°. Хотя испытуемые не способны осознавать различие в наклоне стрелок, на предъявление одной только стрелки с наклоном в 35° картина биоэлектрической активности мозга изменяется так, как она изменяется при предъявлении эмоционально окрашенного слова78.
"Теория перестройки" оставляет без ответа изрядное количество вопросов. Действительно, что побуждает вначале избирать неправильную стратегию поведения и что побуждает потом ее исправлять? Почему в процессе научения часто фиксируется небольшой плавный подъем, т. е. научение в большей своей части происходит постепенно, а не скачком? Как, собственно, происходит сама перестройка? Почему уже после нее может наступать период временного ухудшения результатов? "Теория перестройки" скорее интересный замысел, чем завершенная картина. К. Спенс справедливо пишет: "Сказать, что испытуемый внезапно правильно реагирует потому, что он внезапно по-новому воспринимает ситуацию, не означает еще дать удовлетворительный ответ теоретику, работающему в области научения"79.
Когнитивистские модификации этой теории, как им и положено, лишь добавляют новые блоки в описание процесса. Например, в одном блоке обрабатывается получаемая информация (образуется "знание "что""). В другом она преобразовывается в возможные программы действия: "знание "что"", говорят они, переходит в "знание "как"" (любопытно, что когнитивисты воспользовались при этом философскими терминами, введенными "логическим бихевиористом" Г. Райлем80; в отечественной литературе это различие обозначалось как различие между "знаниями" и "умениями"). А в третьем происходит расширение этих программ действий на другие области применения. Однако сами разработчики таких теорий признаются, что при этом не знают отпета на фундаментальные проблемы, в частности, не понимают даже, как и почему научение вообще начинается81.
Одной из самых интересных и разработанных "теорий перестройки" является концепция Н. А. Бернштейна. Он представляет себе процесс примерно так. Двигательный акт обслуживается сенсорикой, которая постоянно проверяет, соответствует ли этот акт своей "смысловой сущности", т. е. решаемой двигательной задаче. Существуют разные уровни построения движений. Чем сложнее движение, тем больше уровней задействовано. Сам процесс выработки двигательного навыка, по Бернштейну, – это "полные активности искания все более и более адекватных во всех отношениях решений осваиваемой двигательной задачи". Но как искания приводят к адекватности? Путем проб, ошибок, прилаживаний, модуляций... Этот ответ связан с главным для Бернштейна – с признанием важнейшей роли сенсорики, корректирующей движение.
Позиция Бернштейна совпала с бихевиористской лишь терминологически, сам он не рассматривал пробы и ошибки как полный хаос, а связывал их с представлением субъекта "о потребном будущем". Ведь если пробы бездумны и хаотичны, то никакого научения не получится. Научение возможно, уверяет Бернштейн, только если пробы – это проверка и корректировка созданных гипотез. Смысловая структура целиком вытекает из двигательной задачи и определяет ведущий уровень построения, которому эта задача оказывается по плечу. Нижележащие уровни обеспечивают фоновую коррекцию, которая уходит из поля сознания, автоматизируется. Речь идет именно о перестройке: каждое переключение той или иной компоненты движения из ведущего уровня в фоновый происходит скачкообразно, поскольку слагающие этой компоненты становятся качественно совершенно иными.
Пожалуй, Н. А. Бернштейн первым реально рассматривал чисто моторное научение как когнитивный процесс. У него, напомню, даже "верховный моторный центр" отражает не мышцы и сочленения, а окружающее пространство. Он действительно пытался разрешить возникающие гносеологические проблемы. Но и его концепция – все же только гениальный замысел, а не само решение. Он, правда, соединил в своей концепции и постепенность в процессе научения за счет сенсорных коррекций, и качественные скачки в этом процессе. Но основные вопросы, характерные для теорий перестройки, все равно остались нерешенными. Особенные трудности у Бернштейна начинаются тогда, когда на арену своих рассуждений он выводит сознание.
Сознание, согласно Бернштейну, определяет ведущий способ обработки информации, обеспечивающий осмысленность решения стоящей перед человеком (не стану говорить: перед животным) задачи. Тем не менее в процессе упражнения часть движений и сенсорного контроля ("сенсорных коррекций") этих движений осуществляется без контроля сознания, на фоновом уровне. Именно огромное разнообразие неосознаваемых ("фоновых") сенсорных коррекций "обеспечивает двигательному акту устойчивость опорных частей тела, синергическую плавность всем звеньям участвующей кинематической цепи, экономичность по мышечным затратам, пространственную точность, стабильность и т.п."82. Как же после ухода сознания функционируют нижележащие уровни? Оказывается, лучше: "Все больше технических фонов находят для себя условия значительно более точного и совершенного выполнения". Зачем же было нужно сознание? Что оно, собственно, делало, если именно фоновые лишенные сознания уровни решают задачу более точно и совершенно, если они гибче реагируют на корректирующую сенсорную информацию? Бернштейн ограничивается указанием на то, что мотив к осуществлению действия всегда находится на ведущем, т. е. осознаваемом, уровне. Но этот ответ еще ничего не объясняет.
Конечно, в процессе научения автоматизируется (т. е. осуществляется без контроля сознания) любая – даже самая сложная – деятельность. Д. Норман в этой связи приводит слова одного профессионального пианиста: "Однажды во время концерта я вдруг забыл, какое место играю, и мне пришлось прислушаться к собственной игре, пока я не понял, где я"83. Наоборот, деавтоматизация навыка, т. е. взятие автоматизированного действия снова под контроль сознания, может приводить к сбою. Об этом много и хорошо пишет сам Бернштейн, говорят многие другие авторы. Возможно, с этим связаны и отдельные упоминания, что при переходе (после научения) к более медленному темпу работы число ошибок может возрастать. Однако единственное объяснение, которое всему этому дает Н. А. Бернштейн, смущает: автоматизация, пишет он, позволяет освободить сознание от большой перегрузки, вызванной необходимостью вникать в каждую техническую подробность движения. Но почему сознание перегружается? Делает ли сознание что-нибудь еще, кроме того, что освобождается от перегрузок, перекладывая ответственность на нижележащие уровни?
На эти вопросы нет никакой идеи ответа, а потому сама концепция немного повисает в воздухе. Не случайно все, о чем говорит Бернштейн, никак не соотносимо с процессом заучивания. Ведь при заучивании трудно говорить о переходе с одного уровня на другой. Там-то что происходит? Бернштейн ограничивается тем, что противопоставляет выработку двигательного навыка заучиванию и зазубриванию. Но как может навык вырабатываться и не сохраняться в памяти, не заучиваться?
Мы, разумеется, рассмотрели не все существующие варианты теорий научения. Многие из них лежат где-то между кондиционистско-бихевиористской и чисто когнитивистской трактовкой. Все они, возможно, замечательны. Только малопонятно, как применить выявленные законы научения к многократным реакциям на световые вспышки или заучиванию на память длинного стихотворения. Известные "законы научения" часто тривиальны (и загадочны одновременно). Вспомним известный закон эффекта Торндайка: люди, как и животные, стремятся повторять поведение, ведущее к полезному эффекту, и одновременно – избегать поведения, приводящего к "вредным последствиям". Этот закон в силу своей удручающей банальности большинство исследователей признает верным, несмотря даже на многочисленные экспериментальные опровержения. Например, в большом числе исследований показано, что частичное подкрепление (т. е. подкрепление в 50% случаев) эффективнее, чем подкрепление в 100% случаев84. Это противоречит закону эффекта, поскольку в соответствии с этим законом животные должны чаще повторять подкрепляемое поведение, чем неподкрепляемое.
Вот пример другого закона. Первый из пяти законов научения Р. Боллса гласит: научение состоит в создании ожидания новых связей между событиями в мире. Комментатор трактует этот закон так: не только люди, но даже животные научаются вновь возникающим упорядоченным последовательностям событий, т. е. научаются сочетанию стимулов и их последствий85. Речь идет, если упростить формулировку, об автоматически устанавливаемой "познавательной связи" между смежными событиями. В более старинной терминологии, об этом говорилось как о неизбежности образования ассоциаций по смежности. Но разве подобные законы помогают хоть чуть-чуть понять, каким образом парадоксальное невероятие, трагическая невозможность научения внезапно превращается в реальность?
Иногда вместо слов пытаются написать формулу, что само по себе, может быть, и полезно, но тоже не является объяснением. Вот, например, известная формула Гулликсена86:
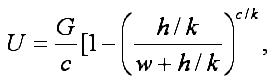
где U – накопленные ошибки, w – накопленные правильные ответы, h – начальная сила правильного ответа, G – начальная сила неправильного ответа, с – константа, вычитаемая из силы неправильного ответа всякий раз, когда он повторяется и порицается, k – константа, прибавляемая к силе правильного ответа всякий раз, когда он повторяется и одобряется. (Надеюсь, читатель узрел в приведенной формуле вариацию на тему закона эффекта Торндайка?) Но разве эта алгебраическая конструкция хоть что-нибудь объясняет? Кроме того, что она трудно применима (явно не просто оценить, например, начальную силу неправильного ответа), она, мягко скажем, еще и не всегда верна, ибо, по меньшей мере, не отражает плато на кривой научения.
Более того, как хорошо известно, при некоторых не всегда ясных условиях многократное выполнение одних и тех же действий, равно как многократное предъявление одних и тех же сигналов, может приводить к "негативному научению" – к ухудшению деятельности, к снижению реактивности. Для обозначения этого используются такие слона: "привыкание", "утомление", "моно-тония", "утрата интереса", "временное снижение работоспособности", "потеря формы", "перетренированность", "выгорание" и пр. Ни закон эффекта, ни закон Боллса, ни формула Гулликсена никак этого не описывают.
Ни теории научения, ни теории заучивания не могут быть признаны сколь-нибудь удовлетворительными. Серьезные исследователи научения почему-то забывают про реальные гносеологические проблемы и рассказывают сказочку о механике связе- или следообразования, делая вид, что она понятна и научно обоснована. А потому и конструируются всякие "упрочения связи", "упрочения следа", "хрупкие уязвимости" и прочие беспредметности. Поразительно, но вся эта развесистая лапша выдается бедным студентам за образец естественной науки! Стоит ли удивляться выводам психологов-гуманистов: 99% того, что написано по так называемой теории научения, просто неприменимо к развивающемуся человеческому существу. Разве удивительно, что, ознакомившись с этаким образцом, студенты в ужасе стараются убежать в гуманистические или психоаналитические дебри – там хоть, как им кажется, сразу говорят о самых важных вещах и при этом почти не обманывают, поскольку изначально мало претендуют как на логическую строгость, так и на опытную проверяемость.
Подлинные теоретические трудности в исследовании научения вызваны тем, что исследователи так и не смогли разрешить возникающие гносеологические проблемы и, соответственно, ясно прописать логику изучаемого процесса. А потому построенные ими теории так же не приложимы к научению, как и теории заучивания – к заучиванию. Нельзя описать научение и заучивание в отрыве от работы механизма сознания. Но теоретики стараются всячески избегать как самого термина "сознание", так и – тем более – обсуждения роли, выполняемой сознанием в изучаемых ими процессах. Даже в когнитивистских теориях сознание ничего не делает. Впрочем, большинство теоретиков ведет себя так, как будто считает: зачем ломать голову и искать выход из логических парадоксов, если можно сделать вид, что никаких проблем нет. Есть лишь гипотетические таинственно исчезающие, накладывающиеся друг на друга следы и связи, якобы созданные природой исключительно с деструктивной целью – для того, чтобы вообще почти ничего нельзя было запомнить и почти ничему нельзя было научиться. Уверен – и думаю, со мной согласится большинство непредубежденных читателей, – что цена таких абсурдных и никак не доказываемых гипотез мизерна.
Любая теория должна начинаться с описания головоломок, которые она собирается распутать. Но творческий процесс сам по себе столь головоломен, что не понятно даже, какие головоломки следует распутывать прежде всего. Как, например, ученые ищут новое знание? Ведь, казалось бы, нельзя же искать "то, не знаю что". А если именно это и искать, то как узнать, что нашел именно то, что искал? Сходная проблема возникает и при рассмотрении художественного творчества. М. Цветаева сидит на диване, курит папиросу за папиросой и ищет то единственное слово, которого ей не хватает в данном стихотворении. Потом вдруг понимает: вот оно! Если она знала, какое слово искала, то что же она искала? А если не знала, то как догадалась, что нашла именно то, что искала? При этом создатели сами не могут вразумительно объяснить, что происходит с ними в процессе творчества, – они не знают.
Уточню: ссылка на интуицию в качестве ответа заведомо запрещена, ибо именно ее и требуется объяснить. Творчество, интуиция – загадочные слова, с помощью которых люди любят называть неведомое. Сколько чудес "объясняется" этими необъясненными понятиями! Сколько замечательных идей было высказано философами, учеными, художниками, чтобы придумать объяснение названным так таинственным явлениям. Однако и поныне они остаются тайной. Все обычно признают: творчество тесно связано с эмоциональными переживаниями и спонтанной активностью. А. Эйнштейн прямо сравнивал эмоциональное состояние в момент открытия с религиозным экстазом и влюбленностью. Г. Гейне, Ш. Бодлер, М. А. Врубель и др. в момент экстатического переживания чувствовали, что возникающее эмоциональное состояние столь сильно, что даже парализует их творческую активность. Почему в ходе творческого процесса и особенно по его завершению возникают столь яркие переживания? Какую роль играют эмоции в творческом акте? Откуда появляется спонтанная, т.е. ничем не вызванная, активность? Нет даже идей ответа.
Вот О. А. Крипцун излагает психологию художественного творчества87. Вначале он вслед за Платоном утверждает: процесс творчества иррационален, его механизмы непостижимы, его закономерности не подлежат выявлению. В акте творчества творец выходит за пределы себя (ex-stasis, отсюда – экстаз), душа его наполняется божественным безумием и проникает в мир запредельных сущностей. И никакая детерминация не может объяснить творческое начало в душе художника. Так что же, теории творчества нет и быть не может? Кривцун неожиданно отвечает: может. Во-первых, у художника есть сознательная цель. Он, например, знает, произведение какого жанра он хочет создать, какого объема, в какой срок и т. д. Но гораздо важнее, утверждает он, что одновременно у него есть ничем не детерминированное намерение, "вписанное в природу самого творца"! Вам не понятно, откуда возникает намерение, коли оно ничем не детерминировано? Кривцун уточняет, зачем-то ссылаясь на X. Хекхаузена: речь идет об интенции, которая всегда присуща художнику, и лишь истолковывается как своего рода намерение. И, чтобы стало понятнее, поясняет: "Уже внутри творческой интенции живет нечто, что позволяет выбирать между разными вариантами художественного претворения, не апеллируя к сознанию, нечто, что запускает творческое действие, направляет, регулирует и доводит его до конца". Но это еще не все. Есть, как рассказывает Кривцун, некие "ненаблюдаемые мотивы творчества", которые, в свою очередь, провоцируют действие самой интенции.
Из самых лучших побуждений Кривцун зачем-то переводит сказанное на язык уже хорошо нам знакомой абракадабры: "Механизмы возбуждения и торможения лежат в основе формирования рефлекторных связей, выступающих фактически инструментом профессиональных умений, навыков, приемов творческой деятельности... Если уровень (возбуждения. – В. А.) будет минимальным, то возбуждение не сможет преодолеть инертность среды и разлиться в должной мере по тканям мозга. Такое состояние во время творчества субъективно оценивается как неудовлетворительное... Процесс завязывания прочных рефлекторных связей пролагает знакомые пути", а это постепенно ведет к тому, что "рефлекторные связи превращаются в задолбленные стереотипы". И т.д. и т.п. А в конце просто очаровательное резюме: "Таким образом, разработки в области прикладной (естественнонаучной) психологии помогают детализировать и объяснять ряд наблюдений, накопленных общетеоретической психологией творчества". Эй, господа любители обвинять естественнонаучную психологию в бессодержательности, учитесь: лучше, чем Кривцун, этого не продемонстрируешь!
Согласимся с Кривцуном: процесс творчества не осознается. Как же в него проникнуть? Конечно, знание концепции Кривцуна в принципе не может привести к тому, что вы будете лучше творить. Но задумаемся: а можно ли вообще создать теорию творчества, позволяющую творить? Ведь если бы таковая появилась, то, наверное, даже весьма посредственные умы знали бы, как надо творить. Но тогда какое же это творчество?
Исследователями творчества проделана большая работа. Выделены фазы творческого процесса, найдены методы, позволяющие диагностировать творческие способности, найдены приемы, эти способности развивающие, и т. д. Однако ни одна из головоломок не была разрешена. В. Н. Дружинин перечислил признаки творческого акта, отмечаемого, как он утверждает, практически всеми исследователями: бессознательность, спонтанность, неконтролируемость волей и разумом, измененность состояния сознания88. Но все эти признаки не подлежат ни внятному эмпирическому наблюдению, ни ясному логическому описанию. Разве можно тогда надеяться построить теорию творчества? А. Н. Лук пишет: "На словах сейчас все признают познаваемость мира, но, когда речь заходит о сокровенных тайнах творчества, многие склоняются к позиции Э. Дюбуа-Реймона "Ignorabimus""89. He случайно Р. Солсо констатирует: "За последние двадцать лет не возникло ни одной крупной теории, которая смогла бы объединить рассеянные и иногда конфликтующие исследования творчества. Отсутствие общей теории указывает как на трудность этой темы, так и на недостаточное внимание к ней со стороны широкой научной общественности"90.
По мнению А. В. Рубанова91, "наиболее развернутая теория творчества" разработана К. Роджерсом. Вот она в сокращенном пересказе. Главный побудительный мотив творчества – стремление человека реализовать себя, проявить свои способности. Сушествуют внутренние и внешние условия творческой деятельности. К первым относятся: открытость опыту (экзистенциональность), внутренний источник оценивания продуктов творческой деятельности, способность к необыкновенным сочетаниям понятий и образов, спонтанной игре-исследованию, из которой вырастает интуитивное решение. Ко вторым Роджерс относит: психологическую безопасность, достигаемую за счет признания безусловной ценности данного индивида не только как творца, но и как человека, понимание и сопереживание ему, оценивание продуктов творчества вне рамок прежней системы ценностных координат, психологическую свободу, означающую полную свободу символического выражения92.
Люблю подобные теории, но странною любовью. Наконец-то становится понятно, чем следует заниматься в процессе творчества: надо от всего освободиться, войти в особое игриво-исследовательское состояние, стать спонтанным и довериться собственной интуиции. При этом еще было бы неплохо, чтобы окружающие тебя любили и поддерживали. Прямо скажем, весьма развернутая теория. Только, на мой вкус, намного раньше и гораздо более понятно выразил этот теоретический замысел А. С. Пушкин: И мысли в голове волнуются в отваге (творчество выступает как спонтанная, ничем не мотивированная активность, надо только не бояться и довериться собственной интуиции), и пальцы просятся к перу (узнаете стремление к самореализации?), перо – к бумаге (признание необходимости соблюдения объективных условий творчества, например, в виде наличия пера и бумаги), минута – и стихи свободно потекут (а вот и полная свобода символического выражения). Правда, Пушкин (впрочем, как и Роджерс, во многом всуе помянутый Рубановым) никоим образом не претендовал на создание законченной теории творчества.
Самый цитируемый исследователь творчества среди отечественных психологов Я. А. Пономарев разработал, как считается, "один из наиболее плодотворных подходов к изучению творчества и интуиции"93. Пономарев в серии изящных экспериментов обнаружил, что подсказка помогает, только если она дается по ходу решения творческой задачи. И эта же подсказка не оказывает никакого влияния, если она дается перед началом решения. Его испытуемые должны были соединить четыре точки (вершины квадрата) тремя прямыми линиями, не отрывая карандаша от бумаги, таким образом, чтобы карандаш вернулся в исходную точку. Решение этой задачи, как правило, было недоступно для испытуемых Пономарева. Они не могли выйти на плоскости за пределы нарисованных точек. Тогда Пономарев перед тем, как ознакомить испытуемых с основной задачей, стал использовать подсказку. Он обучал испытуемых некоей упрощенной шашечной игре, на доску ставились четыре шашки, и испытуемые, действуя по правилам этой игры, должны были "съесть" шашкой, стоящей в углу, все остальные шашки, а в итоге они вынужденно совершали на доске шашкой точно такое же движение, которое требовалось для решения основной задачи. Затем на ту же самую доску (!!) накладывалась калька, на место ранее стоявших фишек на эту кальку наносились четыре точки и давалась основная задача. Решения все равно не было. Но подсказка помогала, если вначале давалась основная задача, затем подсказка, а потом снова основная задача. Испытуемые часто даже не осознавали, что решение они нашли благодаря подсказке94.
Из этого всего Пономарев вывел заключение: человек начинает решать творческую задачу на словесно-логическом уровне, опираясь на имеющиеся у него знания. На этом уровне вместо действий с реальными объектами осуществляются четко контролируемые сознанием операции со знаками, понятиями, моделями. Но все попытки решения оканчиваются неудачей, все гипотезы, направляющие эти попытки, опровергаются. Однако поисковая активность (одна из форм мотивации, замечает Пономарев) нарастает. И тут приходит черед интуиции. "Фаза интуитивного решения наступает в случае, если на предшествующей фазе обнаруживается неадекватность готовых логических программ, недостаточность произвольно привлекаемых в качестве средств и способов решения всякого рода знаний, умений, навыков, создающих неверный замысел. Когда исчерпаны все произвольно доступные знания, но задача еще не решена, "подсказать" ее решение может только "объективная логика", в простейшем случае сами вещи"95. Грубо говоря, человек должен спуститься с вершин абстрактных логических рассуждений к конкретике, в самих вещах, в действиях с этими вещами увидеть решение задачи. "Помимо прямого, осознаваемого продукта действия, отвечающего сознательно поставленной цели, в составе результата действия содержится побочный, неосознаваемый продукт, возникающий вопреки сознательному намерению и складывающийся под влиянием тех свойств предметов и явлений, которые включены во взаимодействие, но не существенны с точки зрения цели действия. Побочный продукт по осознается тем, кто его производит, однако при определенных условиях субъективный полюс побочного продукта, т. с. неосознанное отражение его объективного полюса, может регулировать последующие действия человека, создавшего этот продукт, в частности приводить крещению творческой задачи"96. Итак, вначале "происходит предельное снижение сознательной целенаправленности действий". На фоне этого снижения и замечается то, на что в период активной целенаправленной деятельности не обращалось бы никакого внимания, – замечается неосознаваемый побочный продукт. Но что именно побуждает его заметить? Как именно он вдруг осознается? Пономарев отвечает весьма загадочно: это случается лишь "при определенных условиях". И продолжает: "Осознание факта решения происходит совершенно неожиданно, оно возникает благодаря тому, что оказывается удовлетворенной потребность, достигшая к этому моменту большого напряжения". Все это еще хоть как-нибудь напоминало бы теорию, если бы было понятно, каким образом потребность узнает, что она удовлетворена. В конкретном объекте содержится бесконечное количество различных сторон. Как же выбирается именно та сторона, которая решает проблему? Почему, например, одни люди замечают нужный для решения побочный продукт, в другие – нет? Можно, конечно, придумать ответ: замечают те, у которых потребность достаточно напряжена. Но ведь подобные ответы хороши именно тем, что ровным счетом ничего не объясняют.
Признаюсь в заключение: даже лучшие теории творчества непонятны. Да и как они могут быть понятными, если спонтанность, творческая активность, свобода выбора не имеют даже намека на объяснение.
Здесь я лишь прикоснусь к некоторым загадкам, связанным с существованием и функционированием языка. Однако, чтобы при это мне плутать в терминологических дебрях, не буду тратить время на обсуждение используемых понятий, тем более что лингвистическая терминология отличается от психологической разве лишь в худшую сторону. Слово "значение", например, понимается совершенно по-разному не только в философии, психологии и логике, но и внутри самой лингвистики. А уж термины "значение" и "смысл" любят различать многие (но далеко не все) лингвисты и большинство психологов. Однако беда в том, что каждый различает их по-своему. Для простоты я буду – только в этом разделе – считать эти слова синонимами.
А начнем мы опять с Аристотеля. Этот великий мудрец, всегда знавший ответы на все вопросы, написал то, что почему-то до сих пор многими воспринимается чуть ли не как верх разумения в понимании природы языка: "Звуки, издаваемые голосом, являются символами душевных состояний, а написанные слова – символами слов, произнесенных голосом. И подобно тому, как письмена у разных народов не одни и те же, так и произносимые слова не одни и те же, хотя душевные состояния, непосредственными знаками которых являются эти выражения, одинаковы у всех, как одинаковы и предметы, образами которых являются эти состояния"97. Что ж, это описание выглядит хоть и непонятным, но весьма здравым. Действительно, хвала Аристотелю, его величайшая интуиция позволила ему в одной малюсенькой фразе сделать вид, что не существует по меньшей мере трех фундаментальных парадоксов.
Парадокс первый: язык способен передавать значения, хотя значения не могут быть выражены языковыми средствами. То, что Аристотель называет "душевными состояниями" (в переводе Э. Л. Радлова: "представлениями в душе"; буквально с греческого: "претерпеваемым в душе"), никогда не бывает одинаковым у разных людей. Аристотель это, разумеется, знал (хотя бы потому, что читал в подлиннике тексты Гераклита, даже те, которые ныне, к несчастью, исчезли). Следовательно, он должен был понимать, что никакие знаки в принципе не могут вызывать одни и те же состояния. Тогда что же передается с помощью знаков языка? С чего вдруг звуки речи или следы чернил на бумаге вообще могут передавать душевные состояния говорящего или пишущего человека? Сами знаки ни состояниями, ни мыслями или намерениями не обладают. И никаких других способов узнать содержание чужого сознания нет.
Проблему пытаются обойти, заявляя, что с помощью языковых знаков передаются значения. Так вводится важный термин, который, правда, все понимают по-своему и который очень трудно определить. Дело в том, что ни значения, ни смыслы нигде в мире не содержатся. В одном из своих самых известных афоризмов Л. Витгенштейн красиво написал: "Смысл мира должен лежать вне его. В мире все есть, как оно есть, и все происходит, как оно происходит. В нем нет никакой ценности, а если бы она там и была, то она не имела бы никакой ценности"98. Н.Н. Трубников размышляет на эту же тему: жизнь не имеет никакого смысла: ни мудрого, ни глупого, ни абсурдного, ни трагичного, ни какого иного. Такой взгляд, по его мнению, не только более честный, но и более обнадеживающий, чем какой бы то ни было другой. Ибо он предполагает возможность не столько находить смысл, сколько созидать его, творить и сообщать жизни99. Только сами люди являются носителями смысла.
За невозможность дать значению хоть какое-нибудь внятное определение этот термин не любят ни бихевиористы, ни их выросшие на позитивистских дрожжах последователи. Впрочем, позиция бихевиористов естественна: они, как это им и положено, избавляются от "ментальных процессов" и сводят осмысленную языковую деятельность к бессмысленной формальной игре. Ведь даже Дж. Дьюи заявлял вполне в духе бихевиористской концепции: "Значение не является психической сущностью, а является свойством поведения"100. (В. В. Знаков слишком оптимистичен и выдает желаемое за действительное, утверждая, будто "психологические исследования строятся на отказе от убеждения, что проблему понимания можно решить, не выходя за рамки систем манипулирования символами"101.) Логика бихевиористской позиции понятна: мол, что такое значение – неизвестно, а потому его можно лишь конструировать по поведенческим реакциям. Даже у Л. Витгенштейна психическая составляющая у значения практически исчезает. Слово имеет значение лишь в потоке жизни, утверждает он, значение – это употребление. И уже совсем недавно за попытку избавиться от значений как от важного психологического термина Дж. Брунер обрушивается на порожденных им самим когнитивистов: "Сегодня уже просто неуместно отказывать значению в праве претендовать на центральное положение в психологической теории на основании его "туманности" или "неопределенности""102.
Туманность, однако, вызвана тем, что значение любого слова, любого знака лежит за пределами самого языка, ибо язык выражает, пользуясь термином А. А. Потебни, "первоначальные до-язычные элементы мысли"103. И, логически говоря, вообще не может быть в полной мере выражено словами. Действительно, допустим, что значения некоторых слов можно определить посредством каких-то других слов. Но как определить значения этих самых других слов? Если с помощью определений пытаться описать все слова, то это значит, что мы все далее и далее уходим в бесконечность или, что более вероятно, просто вечно двигаемся по кругу. Ни одно определение не может являться полностью исчерпывающим, ибо с необходимостью должно включать никак не определяемые слова. А. Вежбицкая пытается найти выход из этой безнадежной ситуации и создать список таких интуитивно ясных слов, названных ею семантическими примитивами (универсальными человеческими концептами), с помощью которых уже можно определить все остальные слова.
Семантические примитивы, по мнению Вежбицкой, можно обнаружить эмпирически – они обязательно присутствуют во всех языках мира. Среди наиболее достоверных претендентов на роль этих элементарных смысловых единиц она выбирает такие: я, ты, некто, нечто, этот, думать, хотеть, чувствовать, сказать. Исходно список содержал 13-14 примитивов, затем их стало 37, потом 55. Откуда же возникают эти примитивы? Ответ Вежбицкой прост: они носят врожденный характер, являясь частью генетического наследства человека104. Стандартный и столь хорошо знакомый прием – объяснять неизвестное заведомо непонятным. Фантастическое утверждение о генетической обусловленности фундаментальных человеческих концептов вряд ли стоит подробно обсуждать. Оно настолько же доказуемо, как и утверждение о предопределенности этих концептов величиной гравитационной постоянной, свойствами бензола или числом спутников Юпитера. (Замечу, что такой замечательный исследователь, как С.С. Гусев, используя подобные объяснения, идет еще дальше. Допуская правоту гипотезы Дж. Пирса о том, что объем словарей у разных народов одинаков, Гусев поясняет: "Поскольку с анатомо-физиологической стороны все люди достаточно одинаковы, постольку и число словоформ, употребляемых ими, может быть сходным, выражая количество нервных ячеек, задействованных в интеллектуальных действиях"105. Вот так, гг. анатомы и физиологи, а вы до сих пор об этом не знали и не удосужились найти и подсчитать эти ячейки!).
Сам замысел Вежбицкой – выделить слова, относящиеся к устойчивому общему ядру всех языков мира, и с их помощью попытаться описать весь словарный запас каждого языка – вызывает безусловное уважение. Он весьма трудоемок, но даже его частичная реализация крайне полезна для составителей словарей. Ее ""естественный семантический метаязык" оказался сильным инструментом для описания тонких смысловых оттенков"106. Но все же я попытаюсь показать, почему программа Вежбицкой не может быть в полной мере реализована. Значения существуют и формируются в сознании. Они, как пишет В. Ф. Петренко, "нераздельно связаны с другими образующими человеческого сознания: личностным смыслом, чувственной тканью, эмоциональной окрашенностью"107. Все части, образующие человеческое сознание, не исчерпываются никаким словесным описанием и далеко не всегда осознаются самим носителем сознания. И потому никакое словесное описание не способно передать то значение, которое вызывается словом в сознании. Да что тут доказывать? Ведь словами можно вызвать у человека гипнотическое состояние! Какими семантическими примитивами это следует объяснять?
Осознаваемая часть значения сопровождается неосознаваемыми психическими обертонами, если воспользоваться термином У. Джеймса. Тайна значения в том и заключается, что оно "нигде не находится" – ни в слове, ни в идее, ни в понятии, ни в вещи, о которой мы говорим108. Точнее, значения знаков существуют только в воспринимающем их сознании (в изменении душевного состояния, по Аристотелю). Но и там не полностью осознаются. Многие авторы любят цитировать знаменитое "Мысль изреченная есть ложь", что именно и подразумевает: в наших вербальных изречениях всегда присутствует хоть и осознаваемый, но невербализуемый остаток. Ф. И. Тютчев в цитируемом стихотворении прямо пишет о невозможности "сердцу высказать себя". "Понимание – молчаливо... настоящее – неназываемо", – вторит ему А. Вознесенский.
Поэты – подлинные властители слова – всегда понимали, что и за самим словом стоит нечто невыразимое. Вот как об этом прямо сказал М. Ю. Лермонтов: "Есть речи, значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно". А вот более развернутое описание О. Э. Мандельштама: "Разве вещь хозяин слова? Слово – Психея. Живое слово не обозначает предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела"109. Филолог Е. Г. Эткинд выражает эту же мысль менее поэтично, но более точно. Значение слова, уверяет он, складывается из главного и вторичных смыслов, а также от различных семантических оттенков, зависит как от выбранного стиля изложения, так и от возникающих ассоциаций (обязательных и факультативных, отчетливых и зыбких, в форме смутного намека, эмоционального сигнала или мистического символа и т. п.). Более того, даже "звуковая материя слова участвует в построении содержания: длина слова и составляющие его звуки, место ударения, соотношение согласных и гласных, открытые или закрытые гласные, плавные или взрывные согласные, звукоподражательные свойства – все эти фонетические элементы оборачиваются смысловыми"110. Поэтическое и филологическое чутье подтверждается и в психологических исследованиях: так, например, было показано, что случайно присутствующие внутри слова осмысленные части, никак не связанные по смыслу с самим исходным словом (таковы, например, "мель" в слове "карамель"; "сталь" в слове "ностальгия", "стон" в слове "эстонец" и пр.) обычно испытуемыми не осознаются, но при этом все же воспринимаются и влияют на их последующее поведение111.
Язык, призванный явно выражать (эксплицировать) наши мысли, всегда опирается на нечто имплицитное, явно не выражаемое. Это тем более так, когда речь идет не об отдельных словах, а о тексте в целом. Любая фраза понимается только при наличии многочисленных молчаливых допущений или, в лингвистической терминологии, пресуппозиций112. Как, например, можно понять фризу, наугад извлеченную мной из "Азбуки для родителей": " К плачу ребенка надо относиться как к шуму дождя"? Мало знать, что существуют дети, которые плачут, и что существует дождь, который издает шум. Надо еще понимать, что человек не может повлиять на шум дождя, а потому и не должен пытаться этого делать. В общем, читатель придает этой фразе смысл только при весьма многочисленных допущениях – их даже невозможно перечислить. Среди них, наугад, такие: предполагается, что автор к кому-то обращается, а не просто рассуждает сам с собой; автор по каким-то причинам считает себя имеющим право давать советы родителям или иным людям, воспитывающим детей. По-видимому, читатель должен также думать: автор текста в этом предложении говорит о детях, которые часто плачут без всякого понятного повода; автор не предполагает, что читатели могут быть глухими и потому не понимать, что такое шум дождя; это высказывание в книге сделано на русском языке, а посему читатель с этим языком знаком. Предполагается также, что в прочитанном тексте нет опечаток (на самом деле автор мог сказать совсем иное: к плащу или к палачу ребенка, к плачу жеребенка и т. д.); что автор также полагает, что не все родители знают указанное им требование по отношению к плачу ребенка (в противном случае, зачем бы он об этом писал?). Читатель к тому же должен быть уверен, что в том мире, который описывает автор, существуют и другие правила, кроме им указанного, например, что 2 + 2 = 4 и что дети младше своих родителей; что он правильно прочел фразу, а не явился жертвой собственной галлюцинации; что речь идет о реальном правиле поведения с детьми на Земле, а не о вымышленной автором фантастической истории, происходящей где-то на летающей тарелке. Читатель, скорее всего, должен также предполагать, что эта фраза правильно выражает мысль конкретного автора, а не является, например, шифрованным сообщением или случайной комбинацией слов на компьютере, и т. п. Добавлю (вслед за Дж. Ла-коффом113): поскольку все пресуппозиции сами являются предложениями, то у каждой пресуппозиции есть свои пресуппозиции. И т. д.
Неудивительно, что хотя мы и понимаем высказывания, сделанные на языке, но тем не менее не понимаем, как мы их понимаем. Снова исходный парадокс: с помощью языка можно выразить то, что с его помощью не может быть выражено. Так, мы пользуемся языком, но далеко не в полной мере осознаем его структуру, без знания которой мы тем не менее вообще не можем пользоваться языком. Дети, овладевая языком, научаются строить грамматически корректные предложения, еще не зная саму грамматику. (Позднее, в школе, они с большим трудом будут изучать грамматические правила, которыми сами до этого могли пользоваться безошибочно.) Таким образом, носитель языка обладает умением отличать правильно построенные предложения от неправильных, даже не зная, как он умеет это делает.
Приведу пример, а читатель заодно сможет проверить свою языковую интуицию. Какого рода парное существительное "печка-нагреватель"? Носитель русского языка, как правило, поставит к нему глагол женского рода ("печка-нагреватель остыла"), определив тем самым, род этого парного слова по первому элементу. Но точно так же он поставит глагол в женском роде к существительному "путь-дорога" ("путь-дорога пролегла"), выделив, наоборот, второй элемент слова. А М. Булгаков может даже позволить себе в "Мастере и Маргарите" совсем уж потрясающую конструкцию, которую тем не менее тоже приемлет интуиция носителя языка: "Черная птица-шофер на лету отвинтил правое колесо"114. Как мы способны узнать правильность этих предложений, не имея правил определения рода парных существительных? Как вообще человек способен пользоваться грамматическими правилами, не зная оных?
Ответ самого популярного современного лингвиста Н. Хомского уже можно предугадать: люди способны пользоваться грамматическими структурами, потому что эти структуры имеют врожденный характер. Как мы только что видели, к подобному объяснительному приему прибегает даже такой непримиримый оппонент Хомского, как А. Вежбицкая. Хомский преуспел в построении формальной грамматической теории и в поисках универсальной грамматики, которую он для простоты и трактует как врожденную. Индекс цитируемости Хомского выше, чем у всех ныне живущих ученых, он входит в мировую десятку, где идет сразу вслед за Марксом, Лениным, Шекспиром, Аристотелем, Платоном и Фрейдом115. Но его отсылка к врожденной грамматике, конечно же, не выдерживает серьезной критики. Она сродни рассмотренным выше попыткам описать в физиологических терминах и процессы заучивания, и научение, и творчество. Смею надеяться, читатель уже убедился, к какому логическому мраку это обычно приводит. Однако, пожалуй, даже опаснее (чтобы не сказать: смешнее) считать возникновение грамматических структур или универсальных концептов – без всяких на то генетических оснований – следствием случайных генных мутаций.
Я уверен, что проблема не в генетике, а в природе сознания. Да, действительно, человек осознанно оперирует языком, не осознавая, как он это делает. Но с подобным парадоксом мы уже сталкивались. Сознание не умеет осознавать процесс создания осознаваемого. А значит, нет ничего удивительного, что оно не умеет осознавать и процесс вербализации собственных мыслей, в том числе и процесс построения значений и грамматических конструкций. И до тех пор, пока не будут описаны механизмы сознания, процесс порождения и восприятия языковых высказываний просто не может быть понят.
Парадокс второй: для описания окружающих предметов язык использует понятия, но сами эти понятия отражают то, чего в окружающем мире не существует. Утверждение Аристотеля, что душевные состояния определяются образами предметов, только все запутывает.
Поясню, в чем ошибка античного философа. В древнеегипетском языке имелось несколько знаков, изображающих человека в разных положениях и выполняющего различные действия. Так, "человек, принимающий пищу", изображался одним иероглифом. Но при этом не было иероглифов для обозначения человека, принимающего пищу разного рода, равно как не было создано и отдельных иероглифов для изображения человека, откусывающего, жующего или глотающего пищу. Как замечает С. Гордон, "если изображать каждый конкретный предмет или действие, то это будет уже не письменность, а изобразительное искусство"116. Люди всегда имеют дело с конкретной едой, а не с пищей вообще. В общем "язык представляет нам не сами предметы, а всегда лишь понятия о них, самодеятельно образованные духом в процессе языкотворчества", – писал один из основателей языкознания В. фон Гумбольдт117. Более современные авторы поясняют: "Если мы будем строго называть каждую вещь своим индивидуальным именем, то количество слов окажется неограниченным, и, следовательно, язык будет практически непригоден к использованию"118. Наконец, любой конкретный объект, в свою очередь, может быть соотнесен с множеством понятий: В. А. Моцарт – это человек, композитор, гений, праздный повеса, великий труженик, вундеркинд, обладатель феноменальной музыкальной памяти, автор "Волшебной флейты", заимствовавший мелодию увертюры у М. Клементи, уроженец Зальцбурга, игрок в карты, муж Констанции, сын Леопольда, масон, пианист-виртуоз, герой многих художественных произведений и т. д. и т. п.
Упомянутые Аристотелем душевные состояния, вызванные словами, никак не могут являться образами конкретных предметов. И уж никак не могут в сознании возникать образы этих понятий. Попробуйте представить себе кошку как понятие, т. е. кошку вообще. Только не удивляйтесь, что не получается. Нельзя же, по-видимому, представить себе то, не знаю что. Речь ведь идет не о каких-то конкретных Мурзике, Диане или Барсике, не о кошке соседа, с которыми вы когда-либо могли столкнуться в опыте, а о кошке вообще, с которой вы никогда не встречались и которой, очевидно, в реальности не существует. По-видимому, нет и не может быть хороших описаний того, что такое кошка. Мы признаем некое существо кошкой, даже если у нее будут отсутствовать вроде бы необходимо присущие кошке общие признаки. Она может быть трехпалой, бесхвостой, лишенной шерсти и пр., но при этом все равно останется для нас кошкой. Дети, не достигшие и двухлетнего возраста, реагируют на схематичный рисунок контура кошки, выполненный одними прямыми линиями, как на рисунок именно кошки. Как им это удается?
Еще менее внятна природа возникновения абстрактных понятий. Известно, например, что никогда в опыте не бывает двух равных вещей (как мы помним, даже в одну и ту же реку нельзя войти дважды), но тем не менее у нас есть понятие равенства. Как возникают подобные понятия, если они вообще никак не даны нам в опыте? Мы каким-то образом можем всерьез рассуждать о различии между потенциальной и актуальной бесконечностями, хотя ни с одной из этих замечательных бесконечностей никогда реально в нашей жизни не сталкивались и не столкнемся. Уже Платон хорошо понимал, что понятия не могут являться и, разумеется, не являются отражениями никаких конкретных предметов. Но его ученик Аристотель (случайно, конечно!) об этом забыл.
Понятия – результат работы сознания, мы можем даже связывать знаки в новые сочетания, создавая совершенно новые понятия, которых ранее не было. Так, на китайском языке слово "печаль" возникает из соединения иероглифов "осень" и "сердце", в немецком языке появляются бутерброды, а в русском – слова типа "пылесос" или "мореход". Именно таким приемом создают новые слова дети. Даже обезьяны, обученные всего лишь сотне знаков языка глухонемых, способны образовывать новые понятия. Например, шимпанзе Уошо, воспитывавшаяся Р. и Б. Гарднерами, самостоятельно называла холодильник как "открыть еда питье", а туалет – "грязный хороший", хотя обучавшие ее люди предлагали другие комбинации знаков: холодный шкаф и горшок стул119. Кстати, если Уошо действительно умела оперировать значениями (не будем задаваться вопросом о том, как это подтвердить или опровергнуть), то следует ли из этого, что у обезьян тоже есть свои врожденные семантические примитивы?
Язык является средством выражения мыслей и намерений отдельного человека, которые в отсутствии языка остались бы только его личным достоянием. Но – поразительно! – поскольку язык содержит нечто невыразимое и позволяет образовывать новые понятия, то он делает возможными мысли, которые без него не могли бы возникнуть. Б. Рассел поясняет это примером: "Я могу в известном смысле знать, что у меня пять пальцев на руке и без знания слова "пять", но если я не усвоил языка арифметики, я не могу знать, что население Лондона приближается к восьми миллионам, как не могу иметь вообще никакой мысли, точно соответствующей тому, что утверждается в предложении: "отношение длины окружности круга к его диаметру равно приблизительно 3,14159"120. И дело, разумеется, не только в математических терминах. Разве смог бы, например, Ст. Ежи Лец создавать свои "непричесанные мысли", не пользуясь языком? Думаю, никогда бы у него не возникла идея, словесно оформленная в виде призыва: "Не чавкай глазами!" Иначе говоря, с помощью языка, т. е. всего лишь инструмента для выражения "доязычных" мыслей, в наших мыслях может появиться то, чего в них не было. Именно это позволяет нам каким-то неведомым образом понимать метафоры и парадоксы, в которых сами слова используются в ином, ранее никогда не приходившем нам в голову смысле.
Формирование понятий происходит в результате работы механизмов сознания, однако сами понятия и образуются, и трансформируются совершенно неосознанно. Поэтому с развитием культуры многие понятия изменяются, хотя то, что описывается этими понятиями, казалось бы, остается неизменным. Современный человек, например, совершенно иначе, чем в средневековье, понимает такие универсальные для всех культур понятия, как время, пространство, изменение, причина, число и т.д121. Поскольку изменения происходят медленно, то люди обычно даже не замечают, что понятия, которыми они привыкли пользоваться, давно трансформировались в нечто совсем иное.
Парадокс третий: язык может передавать значения только в результате предварительной договоренности, но сама эта договоренность возможна только с помощью языка. Аристотель, как мы помним, утверждал, что разные знаки (например, слова или письмена на разных языках) могут вызывать одни и те же душевные состояния, т. е. передавать одно и то же значение. В этом Аристотель, безусловно, прав: связь знак – значение обычно совершенно произвольна. Действительно, любое слово может выражать все, что угодно. Как любят вслед за Ф. де Соссюром говорить лингвисты, появление того или иного конкретного слова в языке никак не мотивировано.
Но как же тогда одни и те же слова и письмена, коли они лишь условно связаны со значением, могут всякий раз вызывать одни и те же душенные состояния? Как изначально произвольно установленная связь оказывается устойчивой? Аристотель разъясняет: "Имена имеют значения в силу соглашения"122. Значит, слова вызывают данные состояния не непосредственно, как, правда, заявлялось им во фразе, с которой начинался этот раздел, а через предварительную договоренность между людьми о связи слов и душенных состояний. Современные лингвисты повторяют идею античного титана и говорят о конвенционализации – негласном коллективном соглашении выражать свои мысли определенным образом123. Как же, однако, такая конвенция могла состояться? Ведь сама возможность соглашения между разными людьми обеспечивается тем, что они обмениваются какими-то словами (знаками) , а значит, никакая договоренность никогда бы не могла состояться без заранее согласованного значения слов (знаков). Так и возникает логический круг!
Своеобразный вариант решения предлагает У. Матурана. Прежде всего, он точно (хотя и стилистически тяжеловато) ставит проблему: "Если бы биологическая функция языка состояла в передаче информации, то для того, чтобы он мог возникнуть в процессе эволюции, необходимо было бы предварительное существование функции денотации, из которой и могла бы развиться символическая система передачи информации. Но именно функцию денотации и требуется объяснить в первую очередь с точки зрения ее происхождения в процессе эволюции". Иначе говоря, для того, чтобы язык сообщал о чем-либо, надо заранее знать, что он способен о чем-либо сообщать; но последнее невозможно, если нет языка, на котором можно было бы об этом сообщить. Поэтому, полагает Матурана, "никакой передачи мысли между говорящим и слушателем не происходит". Что же происходит? Признаюсь, однозначно понять Матурану трудно – пишет он на собственном "птичьем" языке, еще труднее быть уверенным, что понял его правильно, но уж почти совсем невозможно его кратко пересказать. Чтобы быть максимально точным, буду предельно близок к тексту, а комментарии позволю себе только курсивом в скобках. И заранее прошу прощения у читателя за неизбежные при этом длинноты. Мне важно показать, какое громадье рассуждений требуется, чтобы вырваться из обсуждаемого круга.
Итак, согласно Матуране, все живые системы (по-видимому, это и отдельные существа, и группы существ, и отдельный вид, и все живое) вступают во множество взаимодействий. Они растут, выделяют энергию, размножаются. "Все это организовано в виде замкнутого каузального процесса, допускающего эволюционные изменения в способе поддержания кругообразности, но не допускающего утраты самой кругообразности". Пояснение самого Матураны: репликация молекул приводит к созданию полимеров, полимеры нужны для метаболизма, метаболизм же нужен для синтеза полимеров, который происходит благодаря процедурам репликации, – вот это все и есть круговая организация, которая образует гомеостатическую систему. (Пример понятен, но остается совершенно загадочным, что такое гомеостатический процесс, допускающий эволюционные изменения.) "Неявным следствием круговой организации оказывается предсказание, что взаимодействие, которое происходило однажды, произойдет вновь". Если предсказание оправдывается, то система сохраняет свою целостность – с точки зрения наблюдателя, утверждает Матурана, это значит, что она идентична самой себе. (Ключевой и весьма темный момент: в каком смысле взаимодействие повторяется, если, согласно Матуране, постоянно возрастает сложность этого взаимодействия ? Вообще ни одно взаимодействие никогда вновь не может быть тем же самым. Так возникает проблема признания одного взаимодействия тождественным другому, т. е. проблема отождествления нетождественного – проблема сама по себе не менее загадочная, чем проблема возникновения языка. Наконец, какое именно взаимодействие повторяется? Любое? Это абсурдно!)
"Один организм может вносить модификации в поведение другого организма двумя основными способами". Первый – когда последующее поведение одного из них строго зависит от предыдущею поведения другого, например, "при ухаживании или в поединке". Матурана справедливо полагает, что этот способ к образованию социальной коммуникации не ведет. Второй связан с тем, что организм каким-то образом особо реагирует на организмы своего вида (как и почему – неизвестно, но тут Матурана в потоке своих весьма абстрактных построений делает хотя и туманную, но единственную эмпирическую ссылку на приматов и дельфинов, у которых такое выделение особей своего вида, по его мнению, наблюдается). Поэтому, когда один организм что-то делает, он автоматически привлекает внимание другого и тем самым ориентирует "поведение другого организма на какую-то часть его области взаимодействий, отличную отчасти, в которую входит данное взаимодействие". Ориентирующее действие одного организма – это действие, не требующее реакции другого организма, однако оно все же побуждает ориентируемый организм как-то это действие интерпретировать (зачем и как?).
Анатомическая эволюция, в свою очередь, способствует развитию артикуляционного аппарата. Люди начинают пользоваться звуками в своем ориентирующем поведении. Важно, что интерпретация всех ориентирующих действий, в том числе издаваемых звуков, происходит совершенно произвольно, без каких-либо реальных оснований (т. е. заведомо без каких-либо гарантий, что интерпретация правильна). Говорящий всегда совершает ошибку, ибо "молчаливо полагает, будто его слушатель тождественен ему, а значит, и когнитивная область последнего тождественна его собственной когнитивной области". (Не понимаю: говорящий никогда не считает слушателя самим собой, о какой же тождественности идет речь? Если же речь идет только о сходстве, то рассуждение Матураны теряет оригинальность, ибо не дает критериев сходства и возвращает нас к конструкциям Аристотеля.) В терминах Матураны, ориентируемый организм совершает выбор в своей когнитивной области, "не обращая внимания на когнитивную область ориентирующего". Это и есть "основа для любого языкового поведения". Ну а далее уже все просто. То, что однажды произошло, будет повторяться из-за стремления сохранить круговую организацию. Поэтому взаимосвязь ориентирующих действий и реакций на них сохраняется. Возникает своеобразная "ко-опера-ция" между организмами. Так, мол, и возникает ложное впечатление, что в процессе ориентирующего поведения передается информация из когнитивной области одного в когнитивную область другого124.
Уф! Тяжко излагать столь вязкий и абстрактный текст. Попробую еще раз объяснить, как я понял, о чем идет речь. Допустим, два организма одного вида нечто делают. Если эти действия физически или биологически зависимы друг от друга (например, распушил хвост в брачный период – привлек самку или толкнул – упал), то речь не идет о социальном взаимодействии (упавший падает как физическое тело, а не как представитель социума). Если каждый из них делает нечто не зависимое от действий другого (например, один прыгает, а второй – сосет лапу), то каждый из них в силу принадлежности к одному виду обращает внимание на действия другого. И принимает эти действия другого за адресованное себе сообщение, хотя на самом деле каждый делал то, что делал, и никакого сообщения не передавал. В дальнейшем, когда один начнет прыгать, то второй в силу неизбежности круговой организации начинает повторять свои действия (сосать лапу). Таким образом, устанавливается устойчивая связь: прыжок – сосание лапы. При этом организм сам для себя придумывает основания, приведшие к образованию связи. И, хотя у каждого эти основания свои, он приписывает в силу понимаемой принадлежности к одному виду эти же основания и своему партнеру. Чем выше организм находится на эволюционной лестнице, тем больше у него анатомических приобретений, позволяющих реализовывать все более сложные программы поведения, не вызванные физической или биологической необходимостью, тем больше он производит независимых действий и тем чаще устанавливаются устойчивые связи.
Мне кажется, что Матурана близок к решению обсуждаемых парадоксов, но его исходные посылки (типа постулата кругообразности) темны и противоречивы. Это неудивительно, ведь для Матураны организм – всего лишь автомат и, разумеется, автомат, не обладающий сознанием. А потому приходится придумывать ни откуда не вытекающие весьма сомнительные допущения, например, о кругообразности взаимодействия. Выступая как наблюдатель собственного поведения, этот автомат способен даже, как утверждает Матурана, строить сугубо индуктивные выводы о своем поведении. Но, как известно, этот тезис эмпиризма опасен. На одной индукции никакой теории не построить, в том числе теории собственного поведения.
Гораздо более обоснованный логически и крайне оригинальный выход из обсуждаемого круга предлагает Б.Ф. Поршнев. Правда, для реализации своей идеи и ему требуется огромное число достаточно произвольных допущений, включая, например, существование телепатии125. Не буду излагать саму концепцию подробно, тем паче что выше я о ней уже говорил. Причиной возникновения речевого общения в филогенезе, по Поршневу, стала необходимость для нсоантропов каким-нибудь способом защитить себя от суггестивного воздействия людоедов-архантрепов. Вот, например, некий архантроп хочет с помощью суггестии подчинить неоантропов, а те в упреждение совершают некое не предопределенное ситуацией действие (Поршнев называл такие действия неадекватными, фактически именно их Матурана определяет как ориентирующие). Но если у Матураны ни сами эти действия, ни их влияние на других не получили ясного биологического обоснования (мол, у одного усложняется поведение просто потому, что оно необходимо усложняется, а другой, мол, реагирует потому, что необходимо реагирует), то Поршнев находит им оправдание. Неоантропы осуществляют такие неадекватные действия, которые вызывают непроизвольную имитацию (например, зевание). Зевание ослабляет суггестивное воздействие, чего неоантропы совместными усилиями и добиваются. Практика осуществления контрсуггестии такого рода постепенно образует навык взаимозависимых действий, лишенных, в силу своей неадекватности, какого-либо иного содержания, кроме взаимозависимости. Эти действия и являются началом становления речи. Блестящая идея, но несколько смущает ее детективный уклон и отсутствие каких-либо прямых оснований для такого описания взаимоотношения архантропов с неоантропами.
Пожалуй, еще более простой и существенно менее притязательный ответ дает А.Л. Блинов: для возникновения речи достаточно, чтобы участники общения упорно притворялись, будто бы у знаков есть смысл. "Коллективная и согласованная ошибочная вера всех участников общения в интенциональность (и/или осмысленность) физических медиаторов общения с успехом заменяет само отсутствующее свойство интенциональности (осмысленности)"126. Мне нравится такой взгляд. Вообще показательно, что все попытки дать логичное объяснение возникновению языка ведут к признанию принципиальной ошибочности, неадекватности возникающих связей. Конечно, и идея Блинова выглядит не менее странной и сомнительной, чем замысел Матураны. Действительно, с чего вдруг люди стали играть в столь странные игры и упорно притворяться перед собой и друг другом? Неужели, как полагает Б.Ф. Поршнев, исключительно для того, чтобы запутать архантропов?
Для менее экзотического объяснения все-таки вначале следует понять роль сознания в функционировании языка и роль языка в функционировании сознания. Но об этой-то роли как раз старательно забывают и лингвисты, и даже психологи. Сам Н. Хомский объясняет это так: "Язык – продукт человеческого сознания, создаваемый заново в каждом индивиде посредством операций, которые лежат далеко за пределами сознания"127. А отсюда вытекает понятное следствие: поскольку основные события в языке происходят за пределами сознания, то незачем уделять сознанию много внимания. Ну действительно, если словоформы зависят от количества нервных ячеек, концепты – от генетических программ, а абстрактные принципы управления функционированием языка определяются, по мнению Хомского, "биологической необходимостью", то лингвисты просто обязаны были потихоньку исключить сознание из рассмотрения. Психологи, к сожалению, не разъяснили им, что содержание сознания всегда порождается в результате неосознаваемых операций.
Итак, человек пользуется языком, не будучи способным объяснить это свое умение. С помощью слов каким-то образом передаются значения, хотя это в принципе невозможно. В понятиях отражается окружающий мир, однако то, что содержится в понятиях, реально не существует. Может быть, сказанного достаточно для того, чтобы не прекращать раздумий о природе языка и речи?
Не буду обсуждать другие, не менее головоломные проблемы психологии (например, о природе порогов чувствительности, эмоций, воли, индивидуальных различий, социально зависимого поведения и пр.). Я полагаю, сказанного достаточно, чтобы стала видна глубина пропасти, в которой вынужденно находится психология. Я уверен: многие проблемы порождены тем, что психологи-теоретики либо просто отмахиваются от такого базового психологического явления, как сознание, либо, в лучшем случае, упоминают о его существовании, не приписывая ему ни ясной сущности, ни ясной функции. Психологи не знают ни что такое сознание, ни что оно делает, а потому не слишком умело пользуются этим термином.
Впрочем, о психологической терминологии стоить поговорить отдельно.
О, вы, любители чудес, внемлите произнесенному вами слову, и удивление ваше будет нечрезмерно.
А. Н. Радищев
Мудрый Л. Витгенштейн сказал: у психологии имеются экспериментальный метод и путаница в понятиях128. Раз вечные проблемы психологии остаются нерешенными, то неудивительно, что и основные психологические термины не могут иметь хоть сколь-нибудь удовлетворительных определений. Привычной стала ситуация, когда сосуществуют сотни противоречащих друг другу определений одного и того же понятия. Как ни странно, отсутствие хорошего терминологического аппарата зачастую объявляется вполне нормальным ввиду исключительной сложности объекта изучения. Например, как иронизирует В. И. Искрин, некоторые психологи в принципе отказываются определять, что такое личность, поскольку, мол, личность многогранна129.
Ключевое слово психологии – сознание. Однако в одних определениях (чаще в философии) оно как нечто идеальное противостоит материальному, в других (прежде всего, в психологии) – как нечто осознаваемое противостоит неосознаваемому (которое, заметим, само по себе тоже идеально), в третьих (например, в социологии) – как нечто рациональное выступает антонимом стихийному130 (хотя и стихийное поведение может быть осознанным). К тому же как нечто вербализуемое сознание часто противопоставляется невербальному (но при этом одновременно признается, что осознаваться может и нечто невербализуемое). В другой группе определений (особенно в физиологии) сознание характеризует одно определенное состояние – уровень бодрствования, иногда – разные состояния, называемые "особыми состояниями сознания". В следующей группе сознание выступает или как нечто качественное (и тогда говорится о "луче сознания"), или как нечто количественное (и тогда говорится об "объеме сознания"). Одни авторы пишут о сознании как о чем-то едином, другие – о множестве разных сознаний (один из самых ярких представителей этой точки зрения – В. Л. Райков131). Ряд исследователей склонны рассматривать сознание как некий механизм в процессах переработки или оценки информации, но многие относят к сознанию только полученное в итоге содержание информации (тогда говорят о сознании как об осведомленности или о насыщенности сознания смыслами). И т. д. и т. п. А поскольку все эти определения так или иначе противоречат друг другу, то не может существовать ни одного явления, соответствующего всем встречающимся определениям сознания.
Если ученые не знают, о чем они говорят, когда говорят о сознании, то, может быть, об этом знают остальные люди, использующие это слово в обычной жизни? Эта странная идея вдохновила не одно поколение теоретиков проводить этимологический анализ психологических терминов. И не важно, что естественный язык заведомо отражает не научную, а "наивную картину мира"132. Из книги в книгу нам сообщается, что сознание – это совместное знание. Сила этого аргумента примерно такая же, как этимологическое доказательство того, что спина – это то, на чем спят, или что со-мнение – это совместное мнение, а собака – это совместный бак женского рода. Вывод же из всего этого, если, конечно, не видеть в аргументации просто поэтическую игру слов, крайне загадочен. Следует ли это понимать так: все, что я осознаю, есть совместное знание? Вряд ли. Может быть, речь идет о том, что сознание возникает только тогда, когда люди начинают каким-то образом обмениваться знанием? В последнем случае возможно несколько вариантов интерпретации. Или самый первый обмен знаниями служит основанием для возникновения сознания – но это значит, что сам обмен знаниями начинается бессознательно. А если он может происходить без сознания, то зачем же тогда нужно сознание? Или же наличие сознания – необходимое условие обмена знаниями, но тогда надо предварительно определить, что же сознание все-таки такое?
Разумеется, не лучше определены и все остальные основные термины. Ключевые понятия "психика" и "сознание" разведены очень плохо. Как отмечает Г. В. Акопов, "явное или неявное отождествление сознания и психики устойчиво воспроизводится на протяжении всей истории отечественной психологии"133. Обычное утверждение, что у животных нет сознания, но есть психика, ничем ни логически, ни экспериментально не обосновано. Дж. Серл, например, не без основания полагает, что "если только мы не ослеплены плохой философией или некоторыми формами академической психологии, то на самом деле у нас нет никаких сомнений, что собаки, кошки, обезьяны и маленькие дети сознательны и что их сознание столь же субъективно, как и наше"134. Поэтому с равным успехом можно предположить, что у животных сознание-то как раз есть, но у них, напротив, плохо с психикой.
Такое "перевернутое" предположение ничем не хуже общепринятого. Его можно даже некоторым образом эмпирически подтвердить. Например, обычно считается, что животные видят сны. Существуют описания того, как охотничьи собаки во сне "охотятся": лают, двигают ногами и т. д. Так, Г. Эрхард утверждал, что его собака "охотится" всегда после того, как ее водили в лес, а если она не была в лесу, то ее можно побудить охотиться во сне запахом сосновых игл135. И кошки, по-видимому, тоже видят сновидения. Во всяком случае, если у них на стадии быстрого сна снять систему торможения мотонейронов, то они начинают двигаться и совершать поисковые движения136. Очевидно, что нужна какая-то внутренняя сцена для просмотра этих сновидений. Можно ли назвать эту внутреннюю сцену сознанием и утверждать, что животные обладают субъективным переживанием? Или стоит ограничиться представлением, что во время сна сознание не функционирует?
Впрочем, эмпирические подтверждения наличия сознания без четких критериев и ясных определений ничего не доказывают – в частности, сделанное высказывание об осознании сновидений не будет всерьез принято ни физиологами, связывающими сознание с уровнем бодрствования, ни аналитическими философами, которые скажут о лингвистически неправильном использовании словосочетания "видеть сны". Кстати, мыслят ли животные? Если мыслят, то осознают ли они результат своих мыслительных операций? Может быть, у них есть только некое допонятийное мышление (еще один загадочный термин)? Но как же тогда шимпанзе или горилла, обученные языку глухонемых, умудряются создавать новые понятия (о чем ранее уже говорилось)? При неопределенности используемых терминов на эти вопросы нельзя дать вразумительных ответов.
Как выйти из столь неудобного положения с терминологией? Как изучать то, что даже не имеет ясного определения? Подобные проблемы часто возникают в науке. Когда люди стали изучать различные вещества, сами эти вещества были для них так же таинственны, как для первых психологов оказались таинственны явления сознания. Хотя каждый человек всегда имел дело с какими-нибудь веществами, никто не знал ни что такое вещество, ни откуда оно появилось. Первые специалисты в этой области назывались алхимиками, и они в исходе были скорее мистиками, чем учеными. Их труд, однако, не пропал даром – появилась наука химия. Химики стали раскладывать вещества на элементы и, в конце концов, нашли в этих элементах порядок – Периодическую систему.
Аналогично решили поступить и психологи. Они не знали, что такое сознание, но решили разложить его на отдельные процессы и пытаться найти в этих процессах какие-либо закономерности. Психологи начинают классифицировать неведомое, надеясь, что, стоит, например, расчленить загадочную психику на более мелкие и более понятные психические процессы, и загадочность психического станет меньше. Так нам и рассказывается во всех учебниках: псе психические процессы делятся на... Студентам ставят ужасные оценки, если они путаются в определениях и не могут различать между собой ощущение и восприятие, память и представление, мышление и воображение. Пусть деление на психические процессы условно, пусть оно не имеет теоретического обоснования, однако оно помогает в описании экспериментов и разработке объяснительных схем. Так же, как первым химикам помогало описывать их опыты указание на такие наблюдаемые процессы, как смешивание, горение, выпадение осадка и пр. Теоретические процессы, описывающие непосредственно не наблюдаемые явления (как, например, окисление), стали известны химикам гораздо позже. (Правда, они при этом не создавали лабораторий выпадения в осадок, в отличие от психологов, легко порождавших лаборатории психологии восприятия или мышления.)
С появлением компьютеров познавательные процессы стали описывать по аналогии с процессами, протекающими в компьютере. Эти аналогия вначале только укрепила традиционное деление психических процессов. Стали говорить о приеме информации (то, что традиционно обычно называлось восприятием), переработке информации (что, по аналогии, связывалось с мышлением) и хранении информации (память). Разумеется, и такое деление не является четким. Когнитивисты, в конце концов, заговорили вообще только об одном процессе – процессе переработки информации, включающем в себя все то, что обычно называют и вниманием, и восприятием, и памятью137.
Классификация психических процессов теоретически никак не обоснована и является типичным примером эмпирической классификации. Представляется ли она естественной, т. е. выделяющей принципиально различающиеся между собой процессы, хотя бы самим же психологам? Вряд ли. Все признают, что процессы тесно взаимосвязаны и в чистом виде не существуют. Нельзя что-либо воспринять и осознавать при этом, что именно воспринято, без памяти. Но и нельзя ничего запомнить, если то, что подлежит запоминанию, не было воспринято. Внимание и мышление также невозможны друг без друга. Даже изучение того, что человек ощущает, предполагает, что испытуемый понимает, о чем его просит экспериментатор, умеет принимать решение о своих переживаниях, обладает речью, дабы сообщить об этом экспериментатору и т.п. К существующей классификации как описывающей реально существующие разные процессы с подозрением относятся почти все, даже авторы учебников и разработчики госстандартов подготовки психологов. Правда, они признают, что ничего лучшего у них нет, а данное членение хотя бы опирается на давнюю традицию.
Автор самого известного советского учебника по общей психологии, С. Л. Рубинштейн писал (правда, не в учебнике!): "Функциональное построение психологии искусственно разрывает и разносит по разным рубрикам (восприятие, память и т.п.) явления, по существу, совершенно однородные, выражающие одни и те же закономерности". (Впрочем, он с взращенной Гегелем и присущей многим психологам советской эпохи диалектической прямотой умудряется заодно утверждать строго обратное: ощущение и восприятие, "взятые так, как они существуют в действительности", – это реальные и разные процессы138.) "Бее виды психической деятельности функционируют в ансамбле, т. е. такие психические процессы, как мышление, речь, память, восприятие и др., онтологически вообще не существуют как отдельные обособленные акты, они искусственно разграничиваются в целях научного анализа, хотя в жизнедеятельности человека "все состоит из всего"", – пишет специалист в области психолингвистики А. А. Залевская139.
Многие признают дидактическую неправильность предлагаемого членения, когда за деревьями психических процессов студенты не замечают леса целостной психики! И в реальных исследованиях то один, то другой психолог приравнивают между собой, например, восприятие и мышление (некоторые даже предупреждают: теоретическое разделение восприятия и мышления небезопасно140), даже восприятие и познание141. Ряд психотерапевтов уже не видят разницы между мышлением и эмоциями142. А.В. Брушлинский не различает репродуктивное мышление и память143. А специалист по исследованию воли В.А. Иванников прямо уверяет, что такого процесса, как воля, реально не существует144. М. А. Холодная говорит, что в конкретных исследованиях эмпирические границы между разными процессами, функциями и уровнями всегда оказывались размытыми вплоть до их полного исчезновения: изучение понятийного мышления оборачивается описанием семантической долговременной памяти, исследование логических умозаключений неожиданно предстает как исследование воображения и т. д. Холодная называет это явление "эффектом перевертыша" и резюмирует: "Так называемые "познавательные процессы" – это не более чем плод нашего несовершенного профессионального ума"145. Не счесть примеров критики обсуждаемой классификации. И абсолютно все согласны: мыслит и воспринимает не мышление или восприятие, а личность. Обсуждаемая классификация к тому же обладает нулевым или даже отрицательным эвристическим потенциалом. Ведь как только психологи обнаруживают какое-то реальное психическое явление, будь то вытеснение по Фрейду, дифференциация фигуры и фона у гештальтистов, установка в школе Д. Н. Узнадзе, конформизм, обнаруженный в экспериментах С. Эша и его последователей, когнитивный диссонанс Л. Фестингера, да хоть павловский условный рефлекс или обнаруженный мной феномен неосознанного негативного выбора, так сразу выяснялось: любое из этих явлений находит свое выражение во всем диапазоне психического. Бессмысленно относить подобные психические феномены только к восприятию, мышлению или эмоциям. Даже в патопсихологии, где диагностическая важность определения у больных отдельных функциональных нарушений не вызывает сомнений, отмечается условность выявления нарушений той или иной функции. "Большинство методик, – пишет О. Ю. Щелкова, – свидетельствует своими результатами о состоянии нескольких функций. ...Нельзя ограниченно исследовать только память, только внимание, только мышление"146. Наконец, все выделенные процессы распадаются на ряд совершенно одинаковых подпроцессов: поступление информации, принятие решения, контроль, оценка и т. д.
Существующая классификация психических процессов нарушает элементарные логические требования. Она, очевидно, построена по разным основаниям. В качестве позитивного примера классификации психических процессов по одному основанию укажу на классификацию Сенеки, не обсуждая здесь ее пользу и осмысленность. Он делит все процессы на относящиеся к прошлому (memoria), к настоящему (presentia) или к будущему (providentia). Основание для деления, по крайней мере, понятно. Спустя тысячелетия эту классификацию повторит Б. Уорф (правда, тут же подчеркнув ее искусственность): "В нашем сознании соединены чувственная и нечувственная стороны восприятия. Чувственную сторону – то, что мы видим, слышим, осязаем, – мы можем назвать the present (настоящее), другую сторону – обширную, воображаемую область памяти – обозначить the past (прошедшее), а область веры, интуиции и неопределенности – the future (будущее)"147. Ничего подобного в общепринятой классификации нет. Практически не найти одинаковых оснований для разделения, например, восприятия и воображения, речи и внимания, мышления и представления, памяти и воли.
Данная классификация неоднозначна. Одни и те же явления можно с равным успехом отнести к разным классам. Попробуем, для примера, выявить критерии, по которым те или иные явления мы должны отнести к классу ощущений. В западной психологии (когнитивизме и позднем бихевиоризме) ощущение трактуется (цитирую по разным словарям) как обнаружение стимуляции, как осведомленность (стыдливое название осознанности) о каких-то состояниях внутри или вне тела, вызванных возбуждением системы рецепторов. А заодно некоторые западные словари относят к ощущениям такие вещи, как ощущение субъективной уверенности или чувство (т. е. ощущение) юмора. Ну прямо как в Средние века, когда в справочнике о змеях обязательно должны были присутствовать не только сведения о ползучих гадах, но и разделы о змеях воздушных, змеях геральдических, змеях сказочных и пр. – ведь надо же изложить все о змеях. Поскольку, впрочем, ни когнитивисты, ни бихевиористы не знают, что такое "сознание", они в итоге (хотя и не в словарях) признаются, что им неведомо, как происходит процесс приобретения осведомленности. Потому же, наверное, предпочитают и не трактовать ощущение как самостоятельный психический процесс.
В советской психологии, так уж повелось, взгляд на ощущение всегда пояснялся тремя цитатами из В. И. Ленина (см. любые психологические словари того времени): 1) ощущение "есть действительно непосредственная связь сознания с внешним миром, есть превращение внешнего раздражителя в факт сознания"; 2) "Самым первым и самым первоначальным является ощущение, а в нем неизбежно и качество"; 3) материя "фотографируется, отображается нашими ощущениями". Заметим, между прочим, что Ленин – с присущей ему диалектической гибкостью – с одной стороны, как известно, постоянно критиковал сенсуализм, но с другой – выступал как пламенный сенсуалист, полагая, что все содержание наших знаний может быть выведено из ощущений. В итоге советские психологи, которые вынужденно (но иногда и по любви) объявили ленинское учение гениальным, оказались в ловушке.
С одной стороны, из приведенных цитат вроде бы предполагается обязательная представленность ощущений в сознании (не могли же психологи в советское время заявить, что Ленин понимал слово "сознание" как философский термин, т. е. иначе, чем это делают они сами). А с другой – признается наличие ощущений (если они первоначальны вообще, то, значит, и филогенетически первоначальны тоже) у животных, но в то же время отрицается у них же сознание. Советская психология красиво именовала эту путаницу плодотворными диалектическими противоречиями. В итоге из процитированной ленинской многозначительной ничевоки советские психологи выводили взгляд на ощущение, во-первых, как на отражение отдельных свойств (качеств) предметов внешнего мира при их непосредственном воздействии на рецепторы. (То, что это отражение при этом осознается, обычно в определении не упоминалось, но иногда подразумевалось.) А во-вторых, большинство советских психологов описывали ощущение как первую ступень познавательной деятельности человека, как филогенетически и онтогенетически первичный процесс.
Конечно, многие прикрывались цитатами Ленина и классиков марксизма лишь как черепашьим панцирем для защиты от идеологического прессинга, но при этом большинство из них искренне думало, что ощущение первично и отражает, в отличие от восприятия, отдельные свойства предметов. (N.B. О черепашьем панцире диалектического материализма на теле здоровой советской психологии прямо заявили А.В. Петровский и М. Г. Ярошевский148. Правда, признаюсь, когда читаешь работы указанных авторов и некоторых их коллег, писанные ими в советское время, то создается впечатление, что, сознательно прикрываясь панцирем, они несколько перестарались – их панцирь иногда становился такого гигантского размера, что под ним уже никакой черепахи не было видно. А. А. Крылов приводит пример еще весьма этически сдержанного высказывания, характерного для того времени: "Имея на вооружении гениальное ленинское произведение, советские психологи до конца разгромят растленную психологию современного империализма"149.) Но вернемся к ощущениям и проанализируем предложенные советскими психологами определения.
Прежде всего, какие именно свойства являются отдельными? То, что мы ощущаем, как доказали сами же психологи, зависит не только от раздражителя, но также от опыта, ситуации, установки, других раздражителей, состояния воспринимающего и пр. Что же тогда есть отдельное свойство вообще? Тембральные характеристики одного и того же звука (например, звучание "ля" первой октавы в исполнении флейты, или скрипки, или камертона) – это отдельное свойство, вызывающее ощущение, это много свойств, вызывающих много ощущений, или уже целый объект, подлежащий восприятию? Пишет В. А. Лекторский: "Мы ощущаем данное цветовое пятно не только как абсолютно единичное, но и как индивидуальное выражение цветовой универсалии ("красного вообще"). ...Непонятно, каким образом ощущения, для которых характерна абсолютная непосредственность (т. е. отсутствие в них составных частей, признаков), могут иметь не только уникальный, но и обобщенный характер"150.
Все время также подчеркивается, что первым в онтогенезе развивается ощущение, и его необходимым свойством является модальность. Но при этом принимаются эмпирические свидетельства того, что существуют врожденные зрительно-тактильные координации (что это такое – ощущения или нет?) и лишь к шести месяцам жизни дети способны по модальности отличать друг от друга зрение и осязание151. Не известно даже количество модальностей. Аристотель говорил о пяти видах чувств. Как полагает Н.В. Васильева, эта точка зрения уже принадлежит истории: "существует от восьми до двух десятков (по разным классификациям) видов сенсорных чувств и три вида перцептивных чувств"152. Наверное, не так много коллег согласятся с выделением Васильевой зрения, слуха и осязания в качестве именно "перцептивных чувств". Впрочем, вообще не известно, всели люди способны даже эти чувства воспринимать как отдельное свойство (не говоря уже о других сенсорных качествах). У людей с цветомузыкальным слухом (таким слухом, как известно, обладали композиторы Н.А. Римский-Корсаков и А.Н. Скрябин, поэт Г. Гейне и др.) звук вызывает непосредственные цветовые ассоциации. Звук для них – это отдельное свойство (и тогда еще можно говорить об ощущении) или это уже сочетание двух свойств: звука и цвета, а потому звук уж точно перцептивное чувство?
Беда с обсуждаемым определением еще и в том, что само ощущение модальности, по-видимому, возможно, даже тогда, когда нет непосредственного воздействия предметов внешнего мира на рецепторы. Разве фантомная боль в отсутствующей конечности – не ощущение? А ведь еще у человека может звенеть в ушах или стынуть кровь, у него могут сыпаться искры из глаз – как оценить, ощущения ли это? Добавлю в этот список цветовое воздействие зеленых чертиков или белых мышей на людей, находящихся в алкогольном психозе. А вкус л имена, переживаемый во сне или вызванный искусственным раздражением нервных центров, – это ощущение? Ну а если в тренинге саморегуляции человек получает инструкцию о том, что его правая рука теплеет, и он чувствует (осознает), что она действительно теплеет, – это чувство является ощущением?
Неосознаваемый ультразвук способен вызвать у людей панику, а значит, как-то воздействует на рецепторы. Тем самым под данное выше определение ощущения подходит. Можно ли считать, что ультразвук – это отдельное свойство объекта, вызывающее ощущение? Регистрируемое в экспериментах субсенсорное восприятие раздражителей – это тоже ощущение? Б.Г. Ананьев не случайно называл ощущение "самым элементарным фактом сознания"153. Так, может, ощущение связано только с осознанием? Правда, задумаемся: всегда ли возможно осознать отдельное свойство предмета без осознания самого предмета? Шершавость ткани – это еще ощущение или уже предметное восприятие? Некоторые "отдельные чувственные качества" и выразить нельзя иначе, кроме как через свойства предмета. Запах мяты, клубники или горячего металла – это ощущения? А вкус кокосового молока, банана или черного кофе? А малиновый (изумрудный, малахитовый и пр.) цвет? Это ощущения?
Определение местоположения источника звука обычно относят к характеристикам слухового ощущения. Но повторю ранее сказанное: если один и тот же по физическим параметрам звук длительностью в 1 мс приходит в левое ухо на одну тысячную секунды раньше его появления в правом ухе, мы определяем, что слышим только один звук, который как бы идет с левой стороны. Нужно различие в три-пять миллисекунд, чтобы услышать два звука154. На каком основании мы можем решить, что различия в тысячные доли секунды, позволяющие нам определять местоположение источника звука, мы ощущаем, а не, скажем, мыслим ("бессознательно умозаключаем", как говаривал Г. Гельмгольц)? Вообще время – это отдельное свойство бытия предметов и личности? Мы его ощущаем, воспринимаем или вычисляем? Переживание одновременности, длительности, временной последовательности, длящегося настоящего, равно как чувство приближения времени наступающего события, – это все ощущения или что-то иное? С помощью какого критерия это можно решить? Надеюсь, сказанного достаточно, чтобы признать: нельзя однозначно определить, отражает ли данный процесс некое отдельное свойство или нет.
И кто скажет, почему, например, простота объекта, или симметричность, или его осмысленность не являются отдельным свойством? Например, для того, чтобы понять произнесенное слово, его надо услышать. Но услышанное слово – это уже восприятие данного слова. Допустим. А восприятие отдельной фонемы и этом слове – это ощущение или восприятие? Осознание того, что предъявленное слово связано с речью, а не просто какой-то случайный звук – это ощущение? В общем, не представляю, как можно в принципе решить, что мы имеем дело именно с ощущением, а не чем-либо иным.
Утверждение о первичности ощущений вводит вроде бы в принятую классификацию элемент иерархии. Но этим лишь еще более все запутывает. Для последователей такого взгляда не важно, что еще А. А. Ухтомский уверял: простые ощущения, о которых стали говорить только после Д. Юма, "есть, в сущности, абстракция, более или менее полезная аналитическая фикция, тогда как реальный и живой опыт имеет дело всегда с интегральными образами"155. А У. Джеймс писал: "Ни у кого не может быть элементарных ощущений самих по себе. С самого рождения наше сознание битком набито множеством разнообразных объектов и связей, а то, что мы называем простыми ощущениями, есть результат разборчивости внимания, которая часто достигает высочайшего уровня"156. И не важно, что гештальтисты, представители школы Д. Н. Узнадзе и многие другие исследователи экспериментально опровергали первичность ощущения в чувственном опыте человека. Пусть А. Ш. Тхостов провел блестящий анализ, доказывающий, что "порождение отдельного конкретного соматического ощущения не выводимо из наличной ситуации" и что "телесные" ощущения человека во многом зависят от сложившихся у него мифологических представлений157. Ну и что? Раз ощущение первично, значит, оно действительно первично.
Не принимается в расчет даже то, что в онтогенезе ребенок еще не умеет выделять некоторые простейшие отдельные свойства, а уже выделяет предметы. К. Коффка подчеркивал: младенец на втором месяце жизни еще не воспринимает синий цвет, но ему уже знакомо лицо матери158 (хотя лицо непрерывно меняется в зависимости от освещения, используемой косметики, движений как матери, так и самого ребенка и пр.). Более поздние и более строгие исследования говорят о том, что уже пятидневные младенцы зрительно отличают лицо матери от лица похожей на нее незнакомки, а голос матери опознается сразу с момента рождения159. Трехмесячные дети способны каким-то образом различать пол одетых в белые халаты незнакомцев, о чем свидетельствует различие их голосовых реакций на мужчин и женщин160.
Приверженцам обсуждаемой позиции столь же не важно, что более сложные восприятия осуществляются обычно лучше и легче, чем выделяются простые ощущения. Так, Н. А. Бернштейн отмечал, что наши представления о работе слухового аппарата таковы, что определение абсолютной высоты звука – более простая операция, чем определение соотношения высот. Однако людей с развитым относительным слухом гораздо больше, чем с абсолютным. Более того, пишет Бернштейн, известны случаи, когда люди, напрочь лишенные даже относительного слуха, т. е. вообще вроде бы не способные отличить высокий звук от низкого, обладают гораздо более сложным речевым слухом: прекрасно воспроизводят все оттенки речи и даже недурно подражают провинциальным говорам, рассказывая анекдоты161.
Да, конечно, у психологов были свои основания говорить о первичности ощущения. Ведь младенцы, еще, находясь в утробе матери, получают сенсорные впечатления, хотя высшие функции у них еще явно не развиты. Действительно, можно доказать, что мозг таких младенцев уже принимает сенсорную информацию и на нее реагирует. Но как узнать, что они при этом действительно нечто ощущают, а не просто их организм автоматически реагирует на сенсорные раздражения? (Вот, например, мнение X. Дельгадо: "новорожденные человеческие существа лишены сознания"162.) Почему именно ощущают, а не воспринимают? Может, они при этом еще и мыслят, пусть по-младенчески? Первичность ощущения подтверждается, например, и существованием таких нарушений зрения, когда человек способен различать свет и тени, но не способен различать форму предметов. Предметное зрение (восприятие) первым нарушается и последним восстанавливается. Однако подобные рассуждения ровным счетом ничего не доказывают. Например, если у телевизора отключить антенну, то нарушается передача осмысленного изображения, хотя на экране телевизора могут появляться какие-то световые пятна. Ну и что? Нельзя же из этого делать какие-то выводы о различии ощущений и восприятий у телевизора или телезрителя! Может, ощущение – это просто категориальная ошибка, как считал, например, Г. Райл?163
Думаю, сказанного достаточно, чтобы, по крайней мере, усомниться, что мы имеем критерий отнесения того или иного явления к классу ощущений. С другими процессами дело обстоит не лучше. Ограничусь лишь короткой ремаркой по поводу такого психического процесса, как внимание. Внимание характеризуется в учебниках рядом противоречащих друг другу свойств, например, распределенностью, переключаемостью и концентрированностыо. Вряд ли кому-нибудь известно, на каком основании эти противоречащие свойства объявляются принадлежащими одному процессу, а не представляют собой три самостоятельных и независимых процесса. Но этого мало. Произвольное внимание практически отождествляется с сознанием. Животные, по предположению, лишены сознания. Представьте, однако, с какой концентрацией собака смотрит на совершенно не нужную ей палку, которую хозяин сейчас кинет в море, какую проявляет готовность броситься за ней и принести ее снова к ногам хозяина. Как решить, существует ли на самом деле у собаки произвольное внимание?
Иногда говорят, что внимание и память – это особые сквозные процессы, пронизывающие все остальные психические процессы. Еще одна загадочная классификация внутри существующей! Как мы можем определить в реальности, что имеем дело со вниманием, а не с чем-нибудь иным, если внимание всегда присутствует? И кстати, а почему восприятие – не сквозной процесс? В реальном опыте оно тоже никогда не может быть отключено. А если человек нечто воспринимает, то это не может не повлиять на другие идущие одновременно процессы. Легко убедиться, что и мышление невозможно исключить из категории сквозных процессов – попробуйте лишь ни о чем не думать.
Очевидно, также, что классификация психических процессов не полна. Существует множество явлений, которые не втиснуть в предложенные классы. Как, например, должны быть классифицированы такие феномены, как понимание, вчувствование, переживание, научение, интерференция, стресс и многие другие? Вот пишет блестящий культуролог М.С. Каган: "Достаточно сравнить различные обобщающие описания человеческой психики, которые даются в учебниках... чтобы убедиться, как эмпиричны, произвольны и бессистемны выделяемые авторами способности и свойства психики: иногда современные психологи придерживаются восходящей к античной традиции и "узаконенного" в школе Лейбница деления духовных сил человека на мыслительную, эмоциональную и волевую, но чаще всего расширяют этот набор, добавляя те или иные дополнительные психические механизмы, по произвольному выбору автора – например, ощущение, память, воображение или какие-то другие; некоторые ученые разделяют эмотивную сферу на эмоции и чувства, другие выделяют бессознательное, а третьи – и сверхсознательное. Вместе с тем в этих простых перечнях рядополагаемых психических явлений оказываются "забытыми"... то фантазия, то любовь, почти всегда вера и всегда вкус, и эстетический, и художественный"164.
В общем, нет никаких оснований видеть за существующей классификацией описание реально существующих самостоятельных процессов. Это утверждение зачастую вызывает взрыв негодования. Б. Г. Ананьев, – говорят мне, например, – написал замечательную книгу "Теория ощущений", а теперь, мол, утверждается, что ощущений как таковых вообще нет?! И выходит, зря многие другие психологи писали работы по психологии мышления – предмет их исследования тоже не существует. Сразу отвечу: я не это имею в виду. Замечательные психологи писали действительно замечательные и очень полезные книги. Они исследовали вполне реальные феномены. Дело в том, что критикуемая классификация имеет определенную пользу, например, как классификация экспериментальных процедур, которыми пользуются психологи. Сами испытуемые – участники экспериментов – всегда способны различить мнемические задачи, когда требуется что-либо вспомнить (в таких случаях говорят, что в эксперименте изучают процессы памяти: запоминание, воспроизведение, забывание), сенсорные задачи, когда они должны сообщить, почувствовали ли они, что они что-то, видят ли, слышат, ощущают (в таких случаях обычно говорят, что в эксперименте изучается процесс ощущении), перцептивные задачи, когда испытуемые стараются отчетливо осознать, что именно им предъявлено (тогда речь идет о восприятии), или когда они решают логические задачи или задачи на понимание предъявленного текста (тогда говорят о мышлении), или они просто должны на чем-то сконцентрироваться и сосредоточенно наблюдать (концентрация внимания) и т. п. Поэтому работы психологов, посвященные той или иной экспериментальной процедуре, способам решения людьми тех или иных задач, могут иметь непреходящее значение. Не их работы, а принятая классификация психических процессов лишена какого-либо реально понимаемого теоретического смысла.
Если чехарда и путаница присутствует в базовой терминологии, то все остальные психологические термины заведомо определены еще хуже. Как, например, определить, что такое характер или самоактуализация, если мы не знаем, что такое личность? Впрочем, некоторые термины определяются операционально и потому вполне однозначно. Но, к сожалению, и это мало что дает, потому что тогда они определенны, но во многом бессмысленны. Характерный пример – известное определение А. Бине: "Интеллект – это то, что измеряет мой тест". Бине шутил, но более внятного определения интеллекта до сих пор не существует. В.В. Никандров вообще считает, что "для психологии терминологическая неясность и неразбериха – норма" и полагает, что "субъективность терминов предопределена предметом науки"165. Думается, однако, что дело не в предмете, а в нерешенности вечных проблем и, как следствие, в отсутствии хорошей теории.
Надеюсь, читатель не пал духом от терминологической невнятности и у него все-таки возникло желание перейти от обсуждения загадок к самостоятельным попыткам их решения. Поэтому я завершаю обзор головоломок, нерешенность которых во многом определяет то состояние современной психологии, в каком она реально находится.